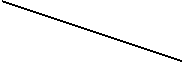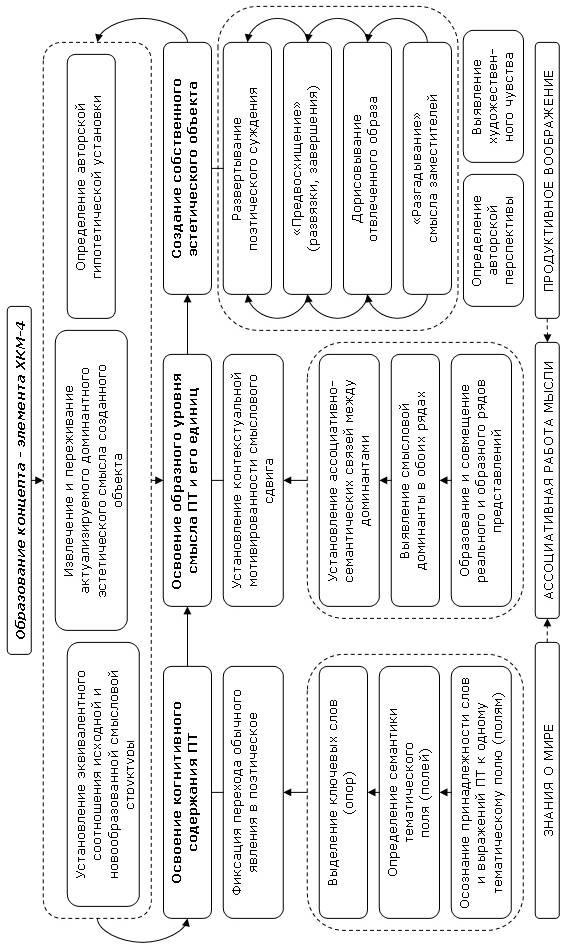
свободной или целенаправленной интерпретации.
Проведенные нами эксперименты показывают, что, начиная с 8-9– летнего возраста, ребенок способен осуществлять продуктивную интерпретационную креативную деятельность в поэтическом дискурсе – даже не маркированном сигналами адресованности ребенку. «Наивный» читатель – младший школьник деятельностно осваивает текстовое пространство поэтического материала, обладающего разной степенью языковой и когнитивной осложненности. Немаловажным фактором понимания является детская языковая картина мира, рассматриваемая как тип детского сознания, проецирующий особую «точку зрения» на мир. Даже у самого неопытного читателя, языковое сознание которого еще не обладает элементами универсальной художественной картины мира (ХКМ-1), благодаря ее чертам, выступающим в дискурсе в качестве фрагментов индивидуальной картины мира читателя (ХКМ-2), в результате работы указанных в схеме механизмов и под влиянием проявлений авторского сознания (ХКМ-3) в каждом конкретном «послетексте» образуется концепт как элемент ХКМ-4. Особое значение в проведении связи между языковыми знаками и репрезентированными в языке поэтического текста ментальными образованиями (смыслами) отводится прагмасемантической интуиции. С ее помощью деятельность сознания читателя в лирико-философском дискурсе, где рациональным путем «вывести» смысл невозможно, приобретает эвристический характер. Выводятся скрытые и косвенные смыслы из прямого значения высказывания путем нахождения в индивидуальной концептуальной системе тех элементов языкового, аффективного и когнитивного опыта, которые способствуют пониманию сообщения в художественном модусе языка. Лингвокреативность продукта речемышления в поэтическом дискурсе обусловлена представленными в схеме механизмами, обусловливающими переработку поэтического факта языка в личностной смыслообразующей системе индивида. Процесс «творения смысла» в ситуации общения с продуцентом поэтической мысли (поэтом) у детей 9–11 лет отличается индивидуальностью и своеобразием. В речевых продуктах этого процесса нет признаков сильного влияния ментальной и речевой стереотипизации. Сопоставление полученных данных с показателями, установленными в группах взрослых носителей языка, позволяют сделать вывод, что недостатки в концептуализации художественной реальности у детей не определяются преимущественно возрастным критерием. Как у детей, так и у взрослых лингвокогнитивные операции вторичного смыслопорождения совпадают. Решающим фактором полноценного личностного восприятия и осмысления поэтического высказывания является способность к аффективно-перцептивным реакциям: отзывчивости к художественной форме, эстетической восприимчивости. В привычных для поэтического дискурса условиях имплицитных способов смысловыражения она выступает своего рода стимулятором для создания эстетической речементальной среды субъективно-личностного пространства, в котором протекает процесс интерпретации поэтического факта.
А. А. Котов
(Москва, kotov@harpia.ru)
Распознавание эмоционального состояния адресата в диалоге
Понимание высказывания предполагает его адекватную обработку сразу на нескольких уровнях языковой модели: распознавание фонем, идентификацию слов, выбор текущих лексических значений, построение синтаксической структуры и семантического представления, установление иллокутивной цели говорящего. Вместе с тем, в неформальном диалоге ключевая функция понимания состоит в точном распознавании эмоционального состояния говорящего и в адекватном эмоциональном отклике со стороны слушающего. Именно об эмоциональном отклике обычно говорят Меня никто не понимает! и Как хорошо, когда тебя понимают! Для говорящего исключительно важно, чтобы его собеседник смог представить или разделить его эмоциональное состояние, а также поддержать его в минуту печали.
Данная область исследований обычно оставалась за рамками интересов лингвистики. Во-первых, она включает достаточно глубинные процессы, сложные для исследования лингвистическими методами, а во-вторых, эмоциональные состояния обычно рассматривались как объект изучения психологии и не включались в компетенцию лингвистики. Увеличение интереса к этим проблемам вызвано развитием научной темы эмоциональных интерфейсов (программных агентов или роботов, способных демонстрировать или распознавать эмоции при взаимодействии с пользователем), а также задачами оценки эмоционального состояния текста, например, при автоматической классификации сообщений интернет-блогов.
Интересным примером теории, которая бы связывала прагматические параметры и эмоциональное взаимодействие в общении явилось исследование Р. Шенка, посвящённое оценке коммуникативных целей при рассказе историй [Schank, 2000]. Шенк показал, что рассказывая историю в компании, человек может (а) получать удовлетворение от привлечения внимания – преследовать я-цель, (б) получать удовлетворение от эффекта на адресата – преследовать ты-цель или (в) рассказывать историю, потому что к этому его вынуждают правила диалога – преследовать цель диалога. Каждая из трёх общих целей делится на подцели; так преследуя я-цель, говорящий может пытаться поделиться сильным переживаем (катарсис), заслужить одобрение своих действий, привлечь к себе внимание в компании, узнать, как нужно действовать в некоторой ситуации, и т. д. Говорящий может преследовать сразу несколько из указанных целей, однако как правило, одна из них является ведущей. Мы дополняем инвентарь коммуникативных целей инвентарём д‑сценариев [Котов, 2003] для описания не только ситуации рассказа историй, но и других типов эмоционального взаимодействия в диалоге (включая возможные ответы на исходное сообщение). Распознавание коммуникативной цели адресатом и адекватный ответ являются важнейшими условиями успешного эмоционального взаимодействия в коммуникации. Нарушение или конфронтация с исходной целью может менять настроение диалога или приводить к конфликту. По этим причинам, аккуратное распознавание коммуникативной цели – это необходимая функция эмоциональных интерфейсов, поддерживающих диалог с человеком. Приведём в качестве примеров коммуникативных целей тексты из интернет-блога.
(1) Я настолько привязана к людям, что без них у меня перекрыт кислород
Особенно к близким людям...
пародокс
Я по натуре своей лидер и всегда собираю народ вокруг себя
Но дело в том, что людям я себя отдаю без остатка
И, наверное, ошибка моя в том, что я жду от людей такого же в ответ
Это неверно, это МОЯ ошибка...<…>
Я глупая, да?
Вот и сейчас я опять чувствую себя кинутой...
Единственно возможная (приемлемая для говорящего) реакция адресата состоит в том, чтобы оспорить положения этого текста: Нет, ты не глупая! Ты правильно поступаешь, что отдаёшь себя людям без остатка. Этот текст преследует цель диалога – вызвать аргумент (по типологии Шенка) или провоцирует коммуникативные схемы (КС) конфликт и комплимент (по инвентарю д-сценариев). Иные ответы (например, прямая поддержка – Да, ты глупая!) – будут неприемлемы.
(2) знакомые в транспорте
Как это всегда глупо и обидно - встречаешь человека в метро, в маршрутке, здороваешься - и ну не о чем говорить. Улыбнулись, распрощались. В лучшем случае спросили, как дела. И забыли немедленно. Или не забыли, упомянули потом в разговоре с более близкими знакомыми. Вроде бы ценить надо, встречаемся в этой беготне, а действительно - о чем поговоришь так вот, на бегу, если ничего особенного не случилось?
Данный текст структурно похож на текст (1), однако конфронтация с положениями этого текста (Да нет, всё не так страшно! Ты на самом деле – отличный собеседник!) свидетельствовала бы о его неполном понимании. Более точное понимание в диалоге состояло бы в том, чтобы разделить искренний характер этого текста и ответить другой историей, в которой говорящий (отвечающий) также предстаёт отчасти неадекватно (КС:Искренность). Парадоксальная ситуация при ответе на такие высказывания состоит в том, что мы можем или поддержать исходное искреннее печальное настроение или пойти на конфронтацию с этим настроением, стремясь развеселить адресата.
В нашем анализе нас, прежде всего, интересуют два типа случаев. Во-первых, это высказывания, в которых коммуникативная цель (настроение) точно не определено, или высказывания, в которых фиктивная поверхностная коммуникативная цель скрывает некоторую глубинную, исходную коммуникативную цель, прямое выражение которой может показаться неадекватным и смешным. Во-вторых, это случаи ответа, в которых адресат (намеренно или случайно) неверно определяет исходную коммуникативную цель говорящего. Кратко представим эти случаи.
1. Текст может не иметь однозначной коммуникативной цели, такая многозначность может скрывать истинную коммуникативную цель.
(3) 11 вечера, иду с работы, захожу в магазин рядом с
домом за едой
В магазине штук пять таких же, как и я, поздно возвращающихся с работы девушек
Одиноко ходят с корзинками по магазину, а в них только иогурты, кефирчики
и хлебцы
И такая у них была тоска и безнадежность в глазах, что когда я гордо взяла
с полки коробку пирожных, меня чуть не закидали помидорами
Честно, я совсем не шучу, прямо неудобно было как-то
Так что я тоже взяла один иогурт, хотя и знаю, что через три дня выкину его в
ведро.
Данный текст может преследовать разные ты-цели: вызвать чувства адресата – рассмешить / заставить ужаснуться из-за современных диет / пожалеть девушек; или различные я-цели: заслужить одобрение: молодец, что лопаешь пирожные!, катарсис: выразить возмущение/иронию относительно современных диет, выразить смущение. Наиболее обоснованной для этого текста представляется цель заслужить одобрение – прямое выражение этой цели выглядит нескромно и нарушает правила вежливости, что заставляет камуфлировать её другими коммуникативными целями.
2. В диалоге адресат может неверно определять исходную коммуникативную цель говорящего, причиной этому может быть эмоциональное состояние (или иное контрольное состояние) отвечающего. Таким образом, отдельные типы непонимания коммуникативных целей со стороны интерфейса могут выражать темперамент или настроение этого интерфейса. С другой стороны, адресат может иронично демонстрировать непонимание, чтобы «поиздеваться» или «подшутить» над адресатом – это будет сокращать или увеличивать коммуникативную дистанцию между участниками коммуникации.
(4) А: Нажми там кнопку номер три.
Б: Чего, какую кнопку потереть?
Для таких высказываний, содержащих ироничное поверхностное непонимание возможен целый ряд типов эмоционального взаимодействия в коммуникации: от «издевки» (КС:Конфликт) до дружеской шутки или наивного кокетства (провокация КС:Умиление).
Литература
Schank R. C. Tell me a story: narrative and intelligence.- Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2000 (1990).
Котов А. А. Механизмы речевого воздействия в публицистических текстах СМИ: Дис. … канд. филол. наук; 10.02.19; - Защищена 23.06.03.- М., 2003.
А.Д. Кошелев
(Москва, koshelev@lrc-press.ru)
О языковом понимании, возникающем в
акте коммуникации (при
взаимодействии схемы лексического значения с наивной классификацией мира)
1. О языковом понимании. Объясним сначала термин «языковое понимание». Предположим, мы услышали фразу Секретарша резко повернулась на стуле к открывающейся двери. Не зная ничего об описываемой ситуации, только на основе услышанных слов, мы вполне ясно, и главное, конкретно представляем ее референтную ситуацию: секретарша сидела на крутящемся (офисном) стуле, а затем быстро повернулась вместе с сиденьем к открывающейся двери. Для нас это настолько привычная операция (представить реальную ситуацию, «картинку» по услышанной фразе), что мы даже не осознаем ее нетривиальности: говорящий, видя некоторую реальную ситуацию, описывает (кодирует) ее языковым высказыванием (последовательностью звуков), а слушающий, не видя этой ситуации, по услышанным звукам реконструирует в своем сознании если не ее, то ситуацию типологически очень похожую, причем в конкретных чертах. Этот коммуникативный эффект: воссоздание гипотетической референтной ситуации («картинки») воспринятой фразы (и слова в ней мы) и называем языковым пониманием фразы (слова).
Подчеркнем: суть именно в том, что слушающий в итоге представляет (воссоздает) вполне конкретную ситуацию, которую называет или могла бы назвать услышанная фраза. Только в этом случае он по-настоящему способен далее (уже интеллектуально) понять говорящего и сделать из услышанного свои выводы. Когда же он улавливает только общий смысл, информационный эффект резко снижается. Если, к примеру, нам кто-то объясняет дорогу, и мы по этому объяснению построили в голове конкретную схему поворотов и переходов, то мы поняли говорящего (достигли языкового понимания). Если же мы лишь осмыслили, что речь шла о поворотах налево и направо и о переходах через какие-то дороги, но точно представили (воссоздали) лишь некоторые из них, полного языкового понимания не произошло.
Итак, наша задача: объяснить, как слушающий воссоздает по воспринятой фразе ее гипотетический референт, реальную «картинку» (а не просто смысл!).
Проиллюстрируем решение этой задачи на простейшем примере: кодировании и декодировании предметных существительных. Опираться при этом мы будем на следующий (основной) тезис: лексическое значение предметного существительного ― это многоаспектное характеристическое описание его референтов, представленных как самостоятельный класс наивной предметной классификации носителя русского языка.
2. Структура и содержание лексического значения. Лексическое значение предметного существительного складывается из описаний двух типов: предметного признака референтов и прототипического (типичного) образа референтов ― манифестанта этого предметного признака. На примере слова стул сказанное выглядит так:
(1) Стул (лексическое значение) = предметный признак ― прототипический образ.
Предметный признак представляет собой характеристическое свойство референтов слова, т. е. свойство, присущее им всем (и только им). Он усваивается ребенком подсознательно вместе с овладением языком и одинаков у всех его носителей. Усвоение это заключается в том, что ребенок научается правильно соотносить предметный признак с воспринимаемыми предметами, делая их тем самым референтами слова. Иначе говоря, он учится определять, какие предметы своими конкретными свойствами (предметными признаками) соответствуют общему предметному признаку (и, стало быть, являются референтами слόва стул), а какие нет.
Прототипический образ референтов ― это прототип, т. е. типичный визуальный (шире, перцептивный) образ референтов, конкретные свойства которых не только отвечают предметному признаку, но и являют собой его типичное внешнее проявление, иначе говоря, манифестируют предметный признак (именно это и выделяет прототипический образ из энциклопедической информации о предмете-референте и делает его элементом языкового значения). Часто прототипический образ референтов составляется из нескольких прототипов ― типичных образов подклассов (подвидов) класса референтов предметного существительного. Например, у слова стул можно выделить такие подклассы: «советский стул (массивный, с высокой прямоугольной спинкой и трапециевидным сиденьем)», «венский стул (с круглыми изогнутыми ножками, круглым сиденьем и овальной спинкой)», «офисный стул (с вращающимся сиденьем на одной ножке)» и др. Таким образом, на примере стула, получим:
(1а) Стул (прототипический образ) = прототипы {«советский стул», «венский стул», «офисный стул» ...}.
Прототипический образ референтов формируется у каждого носителя языка индивидуально и вполне осознанно в процессе использования предметного признака при назывании словом окружающих предметов. В нем фиксируется личный языковой (референциальный) опыт носителя языка. Например, один ребенок никогда не видел офисных стульев, а другой ― венских стульев. В силу этого, они будут иметь несовпадающие наборы прототипов стульев.
Предметный признак задает множество всех потенциальных референтов слова (и только их). Он складывается из двух характеристик: а) структуры частей референта (мы называем ее партитивной моделью референта) и б) функции этой модели, отражающей ту роль, которую, по мнению носителя языка, партитивная модель выполняет [12]. Иначе говоря, он имеет вид:
(1б) предметный признак = партитивная модель референта ― ее функция.
Так, стул имеет следующую партитивную модель: ‘≈ опирающееся на четыре ножки горизонтальное сиденье с прикрепленной к нему вертикальной спинкой’. Функция стула ― это его характеристическое свойство, выделяющее класс стульев среди других предметов, сделанных для сидения, прежде всего табуретов и кресел. Коротко говоря, функция табурета: ‘давать человеку возможность сидеть, не расслабляя тела’, а функция кресла: ‘давать человеку возможность сидеть, полностью расслабившись’. Стул же реализует промежуточную функцию: ‘давать человеку возможность сидеть, частично расслабившись’. Эта функция и позволяет идентифицировать стулья ― референты слова стул, и выделять в них основные части, ее обеспечивающие (партитивную модель: связанные нужным образом сиденье, ножки и спинка). Так, если мы удалим спинку, то функция возникшей структуры несколько изменится, и будет отвечать слову табурет.
Заметим, что далеко не всякая модификация частей предмета приводит к изменению его функции (и, стало быть, предметного признака). К примеру, офисный стул имеет одну ножку и крутящееся сиденье, однако свое имя (стул) он сохранил. Эти нововведения не изменили его функции ― обеспечивать человеку полу-расслабленную сидячую позу, поскольку одна ножка с успехом выполняет функцию четырех. Данный пример показывает, что партитивная модель отражает функциональную структуру (и взаимодействие) частей референта.
3. Наивная предметная таксономия. Условимся считать, что множество референтов каждого предметного существительного включено ― как самостоятельный класс ― в наивную предметную классификацию носителя языка, т. е. в древовидную иерархическую структуру с вершиной ― классом референтов слова предмет [13]. Иначе говоря, множество референтов предметного существительного представлено в сознании носителя языка не изолированно, а как класс (элемент) единой иерархической структуры предметных классов, общей для всех носителей языка, см. рис. 1.
Стрелка «↓» обозначает отношение иерархического включения, означающее, что нижний, более частный класс является подклассом верхнего, более общего.
От вершины этой таксономической иерархии ― класса ‘предмет’ (корня дерева) идут вниз два более частных подкласса предметов: ‘неорганический пред-
‘предмет’ ↓ ↓ |
||||||
|
‘неорганический предмет’ ↓ ↓ |
‘органический предмет’ ↓ ↓ |
|||||
|
‘вещь’ (рукотворный) ↓ ↓ |
‘натуральный’ (нерукотворный) ↓ |
‘труп’ (мертвый) ↓ |
‘организм’ (живой) ↓ ↓ |
|||
|
‘оптический прибор’ ↓ |
...
... ↓ 2 ‘стул’ |
...
↓ 3 ‘камень’ |
...
↓ 4 ‘туша’ |
‘растение’ ... ↓ |
‘животное’ ... ↓ |
|
|
... ↓ 1 ‘очки’ |
... ↓ 5 ‘роза’ |
... ↓ 6 ‘орел’ |
||||
Рис 1. Фрагмент наивной предметной таксономии носителя русского языка.
мет’ и ‘органический предмет’. От класса ‘неорганический предмет’ идут, разделяясь, классы следующего уровня: ‘нерукотворный’ ― ‘рукотворный’ предмет. От класса ‘органический предмет’ идут свои классы: ‘труп (мертвый)’ ― ‘организм (живой)’ и т. д. Нижний уровень иерархии («листья» иерархического дерева) образуют классы референтов конкретных существительных: ‘очки’, ‘стул’, ‘камень’, ‘туша’, ‘роза’, ‘орел’ (эти классы помечены подчеркнутыми цифрами: 1, 2, ...).
Ячейка (класс) предметной иерархии заполняется конкретными образами референтов слова, встретившимися носителю языка (вместе с ситуацией, в которой референт оказался, а также способами и условиями взаимодействия с ним, материалом, из которого он сделан и пр.). Короче говоря, в ячейке хранится набор целостных картинок, содержащих образы референта, удовлетворяющие предметному признаку (он ― основание классификации картинок), вместе со своим ситуационным окружением.
Намеченная предметная классификация (подробнее о ней см. в [Кошелев 2006: 520 и сл.]) совпадает у разных носителей языка с точностью до их лексикона. Если, скажем, носитель языка не знает слова астильба (название цветка), то в его предметной иерархии не будет и класса ‘астильба’. Что касается конкретного наполнения классов (ячеек) данной иерархии (образами и свойствами конкретных предметов), то оно может заметно варьироваться у разных носителей языка.
Рассмотрение множества референтов предметного существительного как класса предметной иерархии ставит нас перед необходимостью ввести в лексическое значение (1) слова еще один компонент: информацию о месте (локализации) класса референтов в предметной иерархии, т. е. информацию о ближайшем сверху (родовом) классе. Тогда схема (1) примет вид:
(1в) Стул (лексическое значение) = i. родовой признак ―
ii. предметный признак ― iii. прототипический образ.
Возьмем, к примеру, слово стул. Его лексическое значение должно содержать наряду с предметным признаком референта (парой: партитивная модель стула ― ее функция), указание на родовой класс ― ‘предмет для сидения одного человека’, включающий наряду с классом ‘стул’, классы ‘табурет’, ‘кресло’, ‘пуфик’ и др.
Условимся содержательные элементы лексического значения (партитивную модель, ее функцию, прототипы) заключать в словесные «скобки». Тогда схему лексического значения слова стул можно представить так:
(2) Стул (лексическое значение) =
i. родовой признак
рукотворный предмет, дающий возможность одному человеку принять пассивное сидячее положение
ii. предметный признак
функция
в полу-расслабленной позе,
партитивная модель
которая (поза) обеспечивается специальным расположением трех основных частей: горизонтального сиденья ― опоры для седалища, присоединенных к нему снизу ножек (или одной ножки), поддерживающих сиденье на нужной высоте (чтобы человек мог ступни своих ног опереть на пол или убрать под сиденье) и прикрепленной к сиденью сверху спинки ― опоры для его спины;
iii. прототипический образ
прототипы {«советский стул на четырех ножках», «офисный стул на одной ножке» ...}.
Напомним роль каждого компонента.
Родовой признак задает место класса референтов в наивной предметной иерархии.
Предметный признак дает партитивно-функциональную характеристику класса всех (потенциальных) референтов лексемы. Он усваивается ребенком подсознательно, вместе с усвоением лексической системой языка.
Прототипический образ дает типичную внешнюю характеристику класса референтов, т. е. задает набор типичных подклассов (подвидов) класса референтов. К примеру, для стула ― это такие его подвиды: «офисный», «советский», «детский» и др. Эти «отстоявшиеся» (в результате многократных референций слова стул) типичные образы хранятся в языковом сознании ребенка и отражают его личный языковой (референциальный) и деятельностный опыт.
4. Семантическая схема предметного существительного. В классе ‘стул’ предметной таксономии хранятся конкретные образы стульев, встретившиеся и запомнившиеся носителю языка (можно предположить: в виде динамических картинок с центральным элементом ― стулом, и ситуациями, в которых он находился и использовался). Все эти образы (стулья) отвечают предметному признаку. Большинство из них соответствует тому или иному прототипическому образу. Вместе с тем, в ячейке могут находиться и нетипичные образы, не отвечающие ни одному из прототипов.
Из сказанного заключаем, что семантическая схема предметного существительного имеет вид (на примере слова стул):
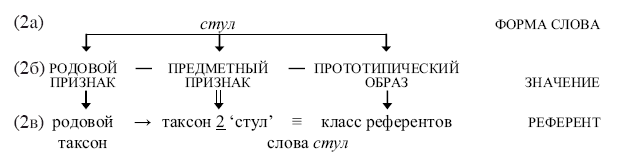
Данная схема включает три элемента (они названы в правом столбце): форма слова (2а), значение (2б) и референт (2в) ― цепочку предметной классификации: «родовой класс → класс 2 ‘стул’ (множество референтов слова стул)». Ее центральный элемент (2б) ― лексическое значение ― содержит трехаспектное описание класса референтов слова стул (класса 2 ‘стул’ в предметной таксономии, см. рис. 1). Предметный признак представляет собой точную дефиницию референтов (это отражает двойная стрелка), прототипический образ описывает их типичный внешний вид. Наконец, родовой признак отсылает к ближайшему (сверху) классу предметной таксономии (‘предмет для сидения одного человека’), который включает класс референтов слова стул. Тем самым, сообщается информация о том, что референты слова стул наследуют все вышестоящие предметные признаки: предмета, артефакта и др. (это задается отношением иерархического включения «→»), см. рис. 1.
Схема (2а-в) структурно изоморфна семантической схеме знака Огдена ― Ричардса: Форма слова ― Значение (понятие) ― Референт (см., например, [Лайонз 1978: 428]). Однако различия в содержании элементов существенны: в (2а-в) значение представлено тремя самостоятельными компонентами, каждый из которых отражает свой аспект описания класса референтов слова, а референт понимается не просто как некоторое множество предметов действительности, а как (подчиненный) класс предметной классификации носителя языка ― подструктуры его наивной картины мира.
5. Реализация языкового понимания в акте коммуникации. Покажем теперь, как схема (2) используется носителем языка при решении обсуждавшейся выше коммуникативной задачи: передать посредством языкового кода конкретный образ референта от говорящего к слушающему. Подчеркнем: едва ли не важнейшим информационным компонентом, обеспечивающим ее решение, является общая для говорящего и слушающего наивная предметная таксономия, к которой они в процессе коммуникации обращаются посредством слов, точнее, их семантических схем.
1) Кодирование (называние) словом воспринятого предмета. Представим себе говорящего, пожелавшего назвать (закодировать) какой-то воспринятый им предмет. В его сознании моментально активизируется процедура Идентификации предмета, осуществляющая поиск подходящего прототипа, соответствующего его внешнему виду. Если, к примеру, воспринятый предмет похож на стул, актуализируется прототипический образ стула в схеме (2), а вместе с ним форма слова ― стул и его предметный признак. Теперь говорящий может проверить (с помощью операции Референции), действительно ли конкретные предметные свойства воспринятого образа отвечают предметному признаку стула. Если да, то значит, кодирование (именование) словом стул воспринятого предмета возможно. Говорящий осуществляет референцию слова к воспринятому образу и включает слово в свою фразу, к примеру, говорит Секретарша резко повернулась на стуле к открывающейся двери. При этом конкретный образ воспринятого стула вместе с конкретной ситуацией, в которой он использовался (целостная картинка ситуации) автоматически пополняет ячейку ‘стул’ таксономии, которая отыскивается через родовой признак i в схеме (2).
2) Декодирование услышанного слова (воссоздание его референта). Обратимся теперь к слушающему. Услышав эту фразу и содержащееся в ней слово стул, он, опираясь на схему (2) и ее прототипический образ iii (набор прототипов), а также, учитывая контекст высказывания (секретарша, резко повернулась), пытается понять это слово ― подобрать из этих своих прототипов наиболее подходящий. Допустим, это «офисный стул». По родовому признаку i схемы (2) слушающий обращается к ячейке ‘стул’ своей предметной таксономии и на основе выбранного прототипа «офисный стул» подбирает из хранящихся в ней конкретных образов офисных стульев, встретившихся ему ранее, самый подходящий образ, который и замещает предмет-референт, названный говорящим.
Декодирование, т. е. воссоздание референта слова стул закончено. Тем самым коммуникативная задача оказывается решенной: слушающий по воспринятому во фразе слову стул воссоздал его конкретный и наиболее правдоподобный гипотетический референт. Это позволяет предположить, что описанная схема языковой коммуникации в какой-то мере отражает реальный языковой процесс.
Литература
Кошелев 2006 — А. Д. Кошелев. О схеме лексического значения предметного существительного и ее функционировании в акте коммуникации // Вереница литер. М., 2006.
Лайонз 1978 — Дж. Лайонз. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
Словарь Ушакова — Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. Т. 1—4. М., 1938.
Е.И. Кравцова
(Барнаул, janekrav@mail.ru)
Естественные категории В функционально-семантическом поле дейксиса
Традиционное исследование дейксиса включает в себя разработку следующих проблем: вычленение и классификация набора дейктический единиц в зависимости от их содержания (указание на говорящего, слушающего, время, пространство), функции (собственно дейксис, анафора, мысленный дейксис), режима речи (первичный/вторичный дейксис, дейксис речевой и дейксис нарративный).
Мы попытались ответить на вопрос – на каких основаниях разнородные дейктические единицы образуют некую целостность, а также предположили, что дейксис является естественной текстовой категорией, существующей в виде функционально-семантических полей. Для доказательства этого положения мы использовали понятие естественной категории, разработанное в когнитивной лингвистике.
Переосмысление понятия категории происходит в связи с тем, что традиционное ее понимание не дает нам ответ на следующий вопрос: «как сводит язык бесконечное разнообразие мира к n-ому числу обозначений», ведь в любом естественном языке проводится меньше различий, чем в окружающем нас мире. Поэтому категории предлагается рассматривать как естественные классы. Важным является то, что классы жестко друг другу не противопоставлены, что «сама категория оказывается объединением или набором единиц с нетождественными свойствами и в то же время группировкой единиц, характеризующихся неким общим свойством – быть представителем чего-то вне знака» [Кубрякова 1997, с. 88].
Основанием для объединения подобных единиц с нетождественным набором свойств послужило введенное Л. Витгенштейном понятие «фамильного сходства», прототипического принципа устройства любой языковой категории (языковой семантики вообще). В прототипической семантике принимают два допущения: в лингвистической категории отражаются в первую очередь не особенности конкретного языка, а особенности когниции, познания; элементы одной категории объединяются, потому что они демонстрируют некоторые черты подобия или сходства с тем членом категории, который выбирается в качестве ее лучшего представителя и полнее всего репрезентирует эту категорию.
Дейксис мы также предлагаем рассмотреть с позиций прототипической семантики как естественную текстовую категорию. В формировании дейктической семантики задействовано множество различных грамматических, лексических единиц с нетождественными свойствами, но, тем не менее, обладающих свойством «быть представителем» сразу трех прототипических элементов этой категории – быть показателем субъекта, времени и пространства.
Когнитивным основанием этой категории является известная когнитивная универсалия («примитивы») - я – здесь – сейчас, которая эксплицитно/имплицитно координирует речевые акты всех без исключения говорящих (активных и пассивных, как говорящего, так и слушающего, интерпретатора). Лингвистическими коррелятами этих концептов являются понятия субъектности (персональности), темпоральности, пространственности, которые и формируют лингвистическую категорию дейксиса. И если мы исходим из принципа антропоцентричности языка, то субъектность оказывается основанием всей категории.
В качестве «лучших представителей» и семантического основания (прототипа) каждого из компонентов мы избираем следующие наиболее абстрактные концептуальные оппозиции: субъект/адресат (Я-Ты) для позиции субъектность, определенность/неопределенность (здесь/не здесь) для позиции пространственность, временность/вневременность (сейчас/ не сейчас) для позиции темпоральность. Каждая из этих оппозиций может быть раскрыта через ряд более конкретных, уточняющих оппозиций: верх – низ, линейность – цикличность, замкнутость – открытость и т.д. В дискурсах говорящих субъектов каждая дейктическая координата и концептуальная оппозиция наполняется актуальным для них содержанием.
Если говорить о способе представления, модели соотношения всех дейктических элементов дискурса, то целесообразно использовать понятие семантического поля. Но семантическое поле может рассматриваться не только как модель определенного явления языка, но и как реальный «способ существования языковых понятий» [Караулов 1987, с. 64], так как принцип полевой организации соответствует устройству естественных категорий: наличие ядра (прототипа) и периферии, отсутствие четких границ, что приводит к множественности, вариативности направлений в развитии категории (или даже ее размыванию). Поэтому, с одной стороны, можно объединить множество различных единиц в единое семантическое поле – лингвистический конструкт, с другой – можно говорить о реальном существовании всех разноуровневых и разнородных дейктических элементов в виде некоей целостности (гештальта), которая формируется в дискурсе.
Функционально-семантическое дейктическое поле, таким образом, понимается как совокупность разноуровневых семантических единиц, связанных между собой различными семантическими отношениями и способных выражать значения персональности, пространственности и темпоральности. Пространственный компонент дейктического ФСП формируется за счет лексических единиц, которые характеризуются различными частеречными свойствами: существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Темпоральный компонент объединяет в себе множество единиц, характеризующихся как лексическими, так и грамматическими свойствами и признаками: имена, наречия, все предикаты, как глагольные, так и именные. Единицы, формирующие дейктический компонент субъектность также разнородны: характеризуются лексическими свойствами (существительные) и лексико-грамматическими свойствами (по категориям лица, рода – местоимения, по категориям лица, рода, залога, модальности – глаголы и предикаты вообще).
Таким образом, мы имеем расширение минимального дейктического ФСП за счет включения в него референциальных единиц номинативного типа, а также за счет грамматических элементов, семантика которых денотативно или концептуально связана с исходными прототипическими компонентами я – здесь – сейчас.
Литература:
Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997.
Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
Ю.Е. Кравченко
(Москва, cvitok@lianet.ru)
Понимание эмоций как фактор преодоления стресса
Эмоциональный интеллект представляет собой способность человека к контролю и пониманию своих собственных эмоций и эмоций других людей. Способности к управлению чужими эмоциями и к их пониманию составляют межличностный компонент эмоционального интеллекта (МЭИ), те же самые способности в отношении к собственным эмоциям и способность управлять своей эмоциональной экспрессией составляют внутриличностный компонент эмоционального интеллекта (ВЭИ).
В основе идеи измерения эмоционального интеллекта лежит представление о том, что чем лучше человек понимает и умеет управлять своими эмоциями и вызывать желаемые эмоции у других, тем лучше его отношения с окружающими, тем лучше он адаптирован в социуме, тем меньше у него коммуникативных проблем и трудностей. Представление об эмоциональном интеллекте позволяет устранить противоречие, связанное с тем, что высокий общий интеллект не всегда сопутствует социальной успешности и адаптированности. Если при высоком общем интеллекте эмоциональный интеллект не очень высок, то на фоне общей продуктивности интеллектуальной деятельности такой человек вполне может быть неуспешен и в построении карьеры, и в повседневной работе, требующей контактов с людьми.
Нарушение в отношениях и коммуникации является одним из наиболее мощных источников негативных переживаний и факторов возникновения стресса. Если обратиться к спискам событий, наиболее часто приводящих к стрессу, полученным в многочисленных исследованиях, то окажется, что подавляющее большинство этих событий связано с изменением характера отношений человека с окружающими и особенно с близкими людьми.
На этом основании была выдвинута гипотеза о том, что чем выше у человека эмоциональный интеллект, тем менее он подвержен стрессу. Понижение уровня стресса происходит за счет того, что, с одной стороны, такой человек переживает меньше негативных эпизодов, связанных с трудностями взаимопонимания и построения контактов с окружающими людьми. С другой стороны, такой человек лучше умеет справляться с собственным стрессом за счет контроля над своими эмоциями.
В исследовании, нацеленном на проверку этой гипотезы, коррелировались показатели способностей, составляющих эмоциональный интеллект, и показатели стресса в двух областях – в личной жизни и в профессиональной сфере. Методики, измеряющие подверженность стрессу, представляют собой списки травмирующих событий, ранжированных по степени стрессогенности. Один список составляют события, связанные с личной жизнью человека – особенностями его семейной ситуации, взаимоотношений с близкими, их и его собственным благополучием; второй касается профессиональных обязанностей и событий, происходящих с человеком на рабочем месте. Испытуемые в процессе работы с методикой должны были выбрать из списка те события, которые недавно происходили с ними, и оценить степень их негативного воздействия.
Испытуемыми выступали 60 сотрудников одной и той же компании, продающей услуги. 30 человек были рядовыми сотрудниками-консультантами, 30 человек – представители руководящего звена[14].
В целом в выборке был невысокий, но выраженный уровень стресса. Статистически значимых различий по уровню стресса и эмоционального интеллекта между руководителями и рядовыми сотрудниками не выявилось (подсчитывался U критерий Манна-Уитни). Подсчет коэффициента корреляции Спирмена свидетельствует об отсутствии в выборке в целом значимых связей между отдельными шкалами эмоционального интеллекта и уровнем стресса.
Другой особенностью выборки было то, что 21 человек (и руководители, и рядовые сотрудники) были отобраны на основе специального тестирования как особенно стрессоустойчивые. 39 человек составили контрольную группу. При сравнении этих двух групп значимых различий по показателям эмоционального интеллекта и выраженности уровня стресса также не обнаружилось.
Однако у всех сотрудников, попавших в группу стрессоустойчивых, выявились высокие обратные корреляции между профессиональным стрессом и большинством способностей, составляющих эмоциональный интеллект (см. таблицу). Корреляций между эмоциональным интеллектом и стрессом в личной жизни не выявилось.
Таблица. Коэффициент Спирмена и уровень значимости корреляций между компонентами эмоционального интеллекта и выраженностью профессионального стресса среди стрессоустойчивых сотрудников
|
|
МУ |
МП |
ВУ |
ВП |
ВЭ |
МЭИ |
ВЭИ |
|
стресс на работе |
|
r = - 0,613 р = 0,003 |
r = - 0,557 р = 0,009 |
r = - 0,574 р = 0,006 |
|
r = - 0,599 р = 0,004 |
r = - 0,589 р = 0,005 |
МУ – способность к управлению эмоциями других людей; ВУ – способность к управлению собственными эмоциями; МП – способность к пониманию эмоций других людей; ВП – способность к пониманию собственных эмоций; ВЭ – способность к контролю своей эмоциональной экспрессии.
В контрольной группе корреляций между показателями эмоционального интеллекта и выраженностью стресса были незначимыми.
Подытоживая результаты исследования, можно сказать, что обратная зависимость выраженности стресса и эмоционального интеллекта обнаруживается не у всех испытуемых, а только у тех, которые продемонстрировали высокую стрессоустойчивость и только в отношении профессионального стресса, но не стресса в личной жизни. Т.е. обратная зависимость между эмоциональным интеллектом и выраженностью стресса не является безусловной, а возникает только у сотрудников, подвергающихся более интенсивному стрессовому воздействию (поэтому при приеме на работу их отбирали по результатам тестирования на стрессоустойчивость), и ограничена той сферой, в которой им приходится находить способы преодолевать этот стресс. Все это дает нам основания предполагать, что эта связь является результатом предпринимаемых человеком усилий, направленных на преодоление стресса, и только в той области, в которой такие усилия являются осознанной необходимостью.
Важным фактом, свидетельствующим в пользу данного объяснения, является отсутствие статистически значимых различий между стрессоустойчивой и контрольной группами в выраженности способностей, составляющих эмоциональный интеллект. Это значит, что сам по себе высокий эмоциональный интеллект не гарантирует меньшей подверженности стрессу. Уменьшение уровня стресса в связи с повышением эмоционального интеллекта является следствием реализации в стрессогенной ситуации способностей, составляющих эмоциональный интеллект, и в первую очередь способности к пониманию чужих и своих собственных эмоций.
Г.Е. Крейдлин
(Москва, gekr@iitp.ru)
Ошибки понимания: проблемы невербальной межкультурной коммуникации эмигрантов и реэмигрантов
Общие механизмы и правила диалогического взаимодействия, коммуникативная и интерактивная практика людей тесно связаны с современными социальными реалиями и потребностями общения. Сегодня учеными разных гуманитарных направлений проводятся обширные исследования, целью которых является обнаружение и объяснение закономерностей, обуславливающих или влияющих на взаимодействие языка и невербальных знаковых кодов. На передний план выходят анализ действий социальных параметров, определяющих успешную коммуникацию людей, и изучение тех областей жизни и деятельности людей, которые невербальные коды обслуживают как вместе с речью, так и отдельно от нее.
Как известно, существуют три основных типа отклонений от правильного понимания невербального текста при переходе от одной культуры к другой (Крейдлин 2002). Это (1) неправильная, или ошибочная интерпретация, (2) неполная интерпретация и (3) избыточная интерпретация. В докладе обсуждаются и существенно уточняются некоторые положения, относящиеся к проблемам понимания и интерпретации невербальных текстов. Их ревизия вызвана введением в рассмотрение совершенно нового для невербальной семиотики материала, а именно невербального поведения эмигрантов из России и реэмигрантов – наших соотечественников, вернувшихся на родину.
Репертуар жестов, поз, знаковых телодвижений и т.д. и их языковых обозначений, равно как и отношение к моделям невербального поведения, у одних и тех же людей, но в разных жизненных условиях может меняться. Людям, эмигрирующим в другую страну и желающим быстрее ассимилироваться ней, или людям, вернувшимся на родину после долгих лет эмиграции, приходится по приезде овладевать лексикой и грамматикой чужого естественного языка или вспоминать и заново активизировать его. Но это еще не всё – людям нужно осваивать чужой язык тела или вспоминать его, что, как показывает практика (опрос и анкетирование, реальное наблюдение, рефлексия носителей невербального языка и др.), оказывается намного сложнее. Между тем, для социальной и коммуникативной адаптации сделать это, причем желательно максимально эффективно и в максимально короткий срок, просто жизненно необходимо. Ведь собственное неправильное поведение или отклонение от правильной интерпретации чужого невербального поведения, как показывают многие общественные события в России и за ее пределами нередко приводят к взаимной неприязни, ссорам и столкновениям.
В докладе обсуждаются основные тенденции, типовые механизмы и важнейшие причины конфликтов, возникающих, так сказать, на невербальной почве, а также некоторые общие способы и конкретные приемы, позволяющие их предотвратить. Насколько мне известно, научных или просто практически полезных сочинений, где бы описывалось – в сопоставительном плане – своеобразие функционирования жестового языка эмигрантов и реэмигрантов в реальных условиях многоязычия, пока еще не появилось.
С.А. Крылов
(Москва, krylov-58@mail.ru)
Четырёхуровневая модель понимания: предмет семантики и её разделы
0.0. К моделированию понимания возможен подход, предполагающий различение нескольких уровней на «оси обозначения» (З. М. Шаляпина), связывающей «поверхностные» сущности с «глубинными». Ср. концепции Ю. С. Мартемьянова, С. Лэма, У. Л. Чейфа, А. К. Жолковского и И. А. Мельчука, Ю. Д. Апресяна, Е. В. Падучевой, Н. Н. Леонтьевой и ряда других теоретиков автоматической обработки текста (АОТ), а также идею «уровней эквивалентности» в переводоведении (в трудах В. Г. Гака, В. Н. Комиссарова, А. Д. Швейцера и др.). Идея расслоения содержания на несколько уровней разделяется многими теоретиками семантики (от А. А. Потебни и Г. Пауля в XIX в. до Г. П. Мельникова, Г. П. Щедровицкого, А. А. Леонтьева, Б. М. Лейкиной, Т. В. Булыгиной, А. В. Бондарко, И. М. Кобозевой и др. в наши дни).
Изложим один из возможных подходов к различению уровней, соотносимых с разными степенями глубины понимания речевого отрезка (РО).
0.1. Предлагается различать 4 уровня понимания в соответствии с 4 уровнями, выделяемыми в плане содержания РО (т. е. в их содержательной стороне). Эти 4 уровня «содержания» (в самом широком смысле) можно или пронумеровать, или (с некоторой небольшой «натяжкой») создать для каждого из них подходящий термин.
I. Инвентарные семантические единицы: «значение» (в широком смысле слова).
(I.1) «Означаемое» (//«десигнат», «общее //системное значение»).
(I.2) «(Собственно) значение» (//«сигнификат», «частное //узуальное значение»).
II. Экстраинвентарные (комбинаторные, конструктивные) семантические единицы: «смысл» (в широком смысле) или «содержание» (в широком смысле).
(II.3) «(Собственно) содержание» (//«контекстное //контекстуальное значение»).
(II.4) «(Собственно) смысл» (//«окказиональное //актуальное значение»).
Договоримся для краткости ниже называть единицы этих 4 уровней «Означаемыми» (I.1), «Значениями» (I.2), «Содержаниями» (II.3) и «Смыслами» (II.4).
1.1. Означаемые, как и Значения, представляют собой инвентарные единицы: они принадлежат языковой системе (инвентарю), поэтому их в принципе можно задать конечным списком. Разумеется, этот список будет небольшим (и ограниченным, т. е. «закрытым») лишь для грамматических значений; а список лексических значений в языке огромен (и практически неограничен, т. е. «открыт»), но всё же его можно описать хотя бы с некоторой степенью приближения как конечное множество (так, эти степени приближения будут разными в «карманном», «учебном», «практическом (однотомном)» и «академическом (многотомном)» словарях). Этим свойством единицы 1-го и 2-го уровней принципиально отличаются от единиц (или «комбинаций единиц») 3-го и 4-го уровней.
Отличие между Означаемыми и Значениями давно известно лингвистике под именем различения «общих» (ОЗ) и «частных» (ЧЗ) значений (в важности этого различения, впрочем, сомневались многие теоретики: только одни из этих скептиков отрицали существование «ОЗ», а другие, напротив, отрицали существование «ЧЗ»).
Языковых знаков (ЯЗ) (в «соссюровском» смысле) столько же, сколько Означаемых. Совпадение экспонентов у ЯЗ с разными Означаемыми есть омонимия; совпадение Означаемых у знаков с разными экспонентами есть абсолютная (полная) «синонимия», «дублетность» или «омосемия». Совпадение Означаемого со Значением возможно лишь при моносемии (чаще всего у терминов). Так как большинство ЯЗ полисемичны, то обычно одно Означаемое состоит из нескольких Значений.
Первый, примитивный, уровень понимания РО – это понимание с точностью до Означаемых: омонимия (как грамматическая, так и лексическая) уже «снята», но полисемия ещё не снята. Такой уровень понимания, видимо, обладает некоторой степенью психологической реальности. Именно он фиксируется при поморфемном (лексико-грамматическом) глоссировании примеров в разнообразных работах по граматической типологии, когда лингвист пытается передать «буквальное» значение РО на некотором изучаемом языке (для этого употребляется помета «букв.»). В работах по АОТ обычен такой способ репрезентации высказывания, при котором исследователь отвлекается от феномена лексической и грамматической полисемии (как правило, не интересующей авторов подобных работ), но при этом обращает внимание на феномен лексической или грамматической омонимии («разрешение» которой считается важной и насущной, даже первоочередной, задачей АОТ – ср., в частности, «первоочередную» задачу «разрешения» синтаксической омонимии).
1.2. Второй, более тонкий, уровень понимания РО – это понимание с точностью до Значений: снята не только омонимия, но и «языковая» полисемия ЯЗ, входящих в этот РО. Этот уровень обладает некоторой степенью психологической реальности.
Меру этой реальности можно оценить степенью единодушия между лингвистами, описывающими набор «отдельных значений» многозначной лексической единицы в словаре или набор потенциальных «частных значений», присущих той или иной граммеме некоторой грамматической категории. Разумеется, в этой сфере существуют некоторые разногласия по отдельным частным вопросам, но наличие таких разногласий не есть доказательство психологической искусственности выделения такого набора значений. Оно свидетельствует лишь о диффузности самой границы между инвентарными значениями и внеинвентарными (окказиональными) употреблениями. Кроме того, эта граница является «зыбкой» по принципиальным причинам: ведь язык изменчив по природе, и окказиональные употребления на наших глазах переходят в узуальные значения. Внимание, уделяемое проблемам репрезентации высказывания на 2-м уровне понимания (не говоря уже о более глубоких уровнях), в работах по АОТ пока что было практически минимальным.
1.3. Третий, ещё более глубокий, уровень понимания РО – это его понимание с точностью до Содержания РО, т. е. результат применения к его Значению (т. е. к репрезентации, фиксирующей те входящие в инвентарь данного языка «частные» значения ЯЗ, входящих в данный РО, в которых эти ЯЗ употреблены) всевозможных «правил взаимодействия значений», при помощи которых из «инвентарных» значений создаются их внеинвентарные (контекстуальные) интерпретации.
Содержания и Смыслы не являются инвентарными единицами (т. е. их нельзя задать перечнем; да и незачем это делать, если можно задать перечень тропов; см. об этом соображения в книге Анны А. Зализняк). Они имеют двоякий аспект – языковой и речевой: в языке они суть экстраинвентарные («конструктивные» по В. Б. Касевичу) единицы, т. е. потенциальные (принципиально возможные) комбинации единиц; в речи они суть речевые реализации этих комбинаций.
Отличие между Значениями и Содержаниями обсуждается в связи с изучением языковых механизмов, обеспечивающих понимание речевых тропов, восстановление семантических эллипсисов, «зачёркивание» избыточных смысловых компонентов, насыщение валентностей, наследование и погашение пресуппозиций. В отличие от механизмов последующего (прагматического) этапа понимания механизмы данного (интегрально-семантического) этапа понимания опираются лишь на те сведения, которые содержатся в данном РО; отсюда и выбор термина «Содержание».
1.4. Четвёртый, наиболее глубокий, уровень понимания РО – это понимание его Смысла. Смысл РО есть результат применения к его Содержанию некоторого ограниченного набора «правил вывода», опирающихся, помимо этого Содержания («семантической информации»), на некоторый общий фонд внеязыковых знаний («прагматической информации», ПИ). Есть 4 источника этих знаний (4 «корзины» ПИ):
(а) «контекстуальная [«анафорическая»] информация» - Содержание тех РО, которые входят в состав связного текста (дискурса), который является объемлющим для интерпретируемого РО, и при этом предшествуют данному РО;
(б) «конситуативная [«дейктическая»] информация» - сведения о таких параметрах речевого акта, как состав участников, обстоятельства протекания: момент, место и др., включая информацию об «общем поле зрения коммуникантов» и о содержании, переданном невербальными средствами (жестами, мимикой и т. п.);
(в) «коммуникативная компетенция» - владение некоторым ограниченным набором (инвентарём) постулатов коммуникации, т. е. «конверсационых» правил этикета, владение которыми принято в социуме, объемлющем данный акт общения;
(г) «энциклопедическая информация» (//«предметная компетенция»), т. е. сведения о мире, входящие в общий фонд энциклопедических знаний (энциклопедическую базу данных), разделяемых участниками коммуникации.
5. Означаемые образуют внутреннюю форму Значений; Значения - внутреннюю форму Содержаний; Содержания - внутреннюю форму Смыслов.
6.1. Отношения между экспонентами ЯЗ и их десигнатами (Означаемыми, единицами уровня I.1) изучаются морфологией, синтаксисом и лексикологией.
6.2. Отношения между Означаемыми (десигнатами, уровень I.1) и Значениями (уровень I.2) изучаются лексической (в том числе фразеологической) и грамматической (в том числе синтаксической) семантикой. В предмете этих наук выделяются «активный» аспект (инвентарно-семантическую амбивалентность, т. е. соответствие одного Означаемого нескольким Значениям) - предмет семасиологии, и «пассивный» аспект (инвентарно-семантическую эквивалентность, т. е. соответствие одного Значения нескольким Означаемым) - предмет ономасиологии.
6.3. Отношения между Значениями (уровень I.2) и Содержаниями (уровень II.3) составляют предмет «интегральной» («сентенциальной», «контекстуальной») семантики. В ней тоже выделяются два аспекта – «рецептивный» (интегрально-семантическую амбивалентность, т. е. соответствие одного Значения нескольким Содержаниям - предмет «интерпретирующей» семантики), и «продуктивный» аспект (интегрально-семантическую эквивалентность, т. е. соответствие одного Содержания нескольким Значениям - предмет «порождающей» семантики).
6.4. Отношения между Содержаниями (уровень II.3) и Смыслами (уровень II.4) составляют предмет прагматики. Поэтому в составе прагматики можно выделить такие её противоположно друг другу направленные аспекты, как риторику (теорию «прагматического синтеза») и герменевтику (теорию «прагматического анализа»). Риторика изучает многообразие иносказаний, т. е. прагматическую эквивалентность РО, выражающих один и тот же Смысл с помощью разных Содержаний. Герменевтика же изучает многообразие интерпретаций (прочтений), т. е. прагматическую амбивалентность РО, имеющих одно и то же Содержание, но потенциально допускающих разные Смыслы. См. табл.:
|
аспекты: |
инвентарная семантика |
интегральная семантика |
прагматика |
|
понимание |
(инвентарная) семасиология |
интерпретирующая семантика |
герменевтика |
|
вербализация |
(инвентарная) ономасиология |
порождающая семантика |
риторика |
И.В. Кузнецов
(Новосибирск, eliah2001@mail.ru)
Источники художественного смысла: от автора к читателю
1. К началу ХХ века филология оказалась на пороге качественных изменений. Спецификация «поэзии», то есть сферы художественной, среди прочих отделов словесности обострила герменевтическую проблематику, на данном этапе связанную с вопросом о «правильной» трактовке художественного произведения. Предстояло понять, возможна ли такая трактовка и нужна ли она вообще?
А.Потебня еще в середине XIX века писал о невозможности единого толкования произведения словесного творчества. Рассматривая психологию порождения и восприятия слова и образа, ученый пришел к выводу, что понимание уникально и зависит от понимающего: «То, что мы называем пониманием, есть акт особого рода возникновения мысли в нас самих по поводу высказанной другими мысли»[15]. Учение Потебни нашло отклик в литературной теории поэтов-символистов. А. Белый апеллировал к Потебне в том, что «поэтический образ досоздается – каждым»[16]. Вяч.Иванов спроецировал его основные положения на теорию символизма: «Символизм есть искусство, обращающее того, кто его воспринимает, в соучастника творения»[17]. Отозвалась теория Потебни и в литературной критике. Так, А.Горнфельд писал, что «художественное произведение существует лишь в своеобразном понимании отдельного человека»[18].
Но оставался вопрос о границах сектора адекватности толкования произведения. В поисках начала, которое может предупредить «от разнузданности произвольного толкования», Горнфельд находил, что таким началом может стать «мысль об авторе»[19]. Критик напомнил слова Ф.Сологуба: «Критерий для читателя – общий духовный облик поэта»[20]. Граница полагается не только эстетически, но и этически: отношение к произведению приобретает личностный характер. Сходным образом рассуждал М.Бахтин: констатируя, что в анализе содержания «известной степени субъективности избежать вообще невозможно», он указывал на границу, и она опять-таки обладала этическими свойствами: «научный такт исследователя… заставит оговорить то, что является субъективным в его анализе»[21].
В 1920-е гг. имелись и другие подходы к проблеме смысла художественного целого. Так, В.Жирмунский и А.Скафтымов полагали недопустимыми вариативные трактовки одного произведения. «Не читатель, а поэт создает произведение искусства»[22], – настаивал Жирмунский, выводя из этого тезиса единственность интерпретации. А.Скафтымов специально уточнял свое неприятие взгляда Потебни и его последователей – взгляда, предполагающего многообразие трактовок одного текста. Наконец, третий подход был свойствен наиболее радикальным ученым «формальной школы» – В. Шкловскому, Р. Якобсону, В. Виноградову. Ими вопрос о смысле произведения просто не ставился. Задача поэтики понималась исключительно как изучение приемов, организующих материал языка.
2. Представляется, что подход к проблеме трактовки во многом связан с пониманием отношений между субъектными инстанциями автора, героя и читателя, формирующими архитектонику внутреннего мира произведения. Этот подход меняется, т. к. в разные историко-литературные периоды отношения «автор – герой – читатель» мыслятся различно.
Если инстанции автора и героя осознаются литературной общественностью на протяжении всего XIX века, то актуализация и осознание инстанции читателя происходит лишь в рамках символистской эстетической парадигмы. Осознание роли читателя в становлении смысла произведения было связано с плюрализацией социокультурной обстановки и утратой единства герменевтической парадигмы к концу XIX века. При этом возникли две основные стратегии авторского поведения. Первая стратегия – поиск «концепированного» (Б.Корман) читателя в реальной аудитории, выстраивание текста так, чтобы он производил «фасцинирующий» эффект именно для этого читателя, насыщение текста кодами, ему понятными. Эта стратегия реализовалась в акмеизме и литературе «неотрадиционалистского» течения. Вторая стратегия – подчинение реального читателя: автор навязывает ему свой язык (в пределе – моносубъектный язык зауми), свои эстетические и ценностные императивы. В футуризме, а затем в соцреализме она проявилась как достаточно агрессивное насаждение «должной» читательской позиции. Позже, во «втором авангарде» (ОБЭРИУ) состоялась манифестация абсурдного мира и, следовательно, провоцирование рецептивного произвола. Литература абсурда, доведя до крайнего предела модернистский эксперимент, передала преимущественные права на смысл читателю.
Эстетический опыт нашел свое отражение в науке. М.Бахтин в ранних работах говорил именно об авторе и герое как о двух существенных компонентах эстетического события: «Герой, автор-зритель – вот основные живые моменты, участники события произведения»[23]. Только в 1940-е Бахтин определенно ввел триаду участников события высказывания, в том числе и художественного: «Существенным (конститутивным) признаком высказывания является его обращенность к кому-либо, его адресованность»[24]. И уже на склоне жизни, размышляя о специфике гуманитарных дисциплин в целом, ученый настаивал на необходимости «включения слушателя (читателя, созерцателя) в систему (структуру) произведения»[25].
3. В европейской науке середины ХХ века подход «от читателя» получил развитие в рамках «рецептивной эстетики», основы которой были заложены работами Р. Ингардена 1940-х гг. Ингарден стал говорить о «конкретизации» художественного произведения, которая достигается в его прочтении и в которой эстетический объект получает полноту и завершенность. «Произведение художественной литературы… в ряде отношений дополняется или восполняется читателем… вместе с внесенными в него дополнениями становится непосредственным объектом эстетического восприятия»[26]. Эта мысль позже была неоднократно повторена, в частности, В.Изером, и стала общим местом эстетических концепций второй половины ХХ века.
Видение смысла текста как открытого, несамодостаточного вне читательского участия свойственно современной литературной эпохе. В литературе постмодернистской формации происходит активное проникновение читателя в мир отношений автора и героя. По самому характеру новой позиции читателя ему необходимо приходится прикладывать усилия, чтобы осуществить смысловое структурирование данного в тексте материала. Позиции автора и героя утрачивают не только детерминирующий, но и паритетный характер по отношению к позиции читателя. Смысл текста намеренно открыт; читатель уже не просто оперирует заданными кодами, реконструируя смысл целого, достраиваемый им, но все-таки исходно заданный автором (модернизм); читатель оказывается перед вопросом, обладая заведомо недостаточным набором средств для ответа. Ответственность за смысл, таким образом, лежит не на авторе, а в значительной степени именно на читателе.
Н.Н. Леонтьева
(Москва, leont-nn@yandex.ru)
От «не знаю» – к «не понимаю»
В
отличие от «жестких» ИПС, выдающих ответы типа «пусто-непусто»,
лингвистический анализ текста способен проводить градацию степеней
«понимания», «знания», «незнания». Это необходимо в задаче построения
баз знаний на основе анализа связных текстов. Ведь если человек
проинтерпретирует отрицательный ответ ИПС как "НЕ ЗНАЮ", то система с
лингвистическим анализом способна проанализировать текст вопроса и
ответить, какую часть вопроса она "поняла", а что "не
поняла", и даже
объяснить причину и вид "непонимания". Непонимание - более тонкий
аспект коммуникации, он приглашает продолжить диалог.
Ю.Р. Лотошко
(Тверь, lotoshko@hotmail.com)
Компьютерное понимание текста в семиотическом аспекте
Ignotum per ignotius.
Объяснять неизвестное
еще более неизвестным. (Лат.)
1. Термин «понимание» широко используется в различных отраслях знаний и не является однозначно воспринимаемым представителями разных направлений (семиотика, герменевтика, филология, философия, психология и других когнитивных науках)[27]. В наших рассуждениях под этим термином, исходя из целей и задач, мы будем подразумевать следующее:
Понимание – это выявление содержательных элементов, параметров в анализируемом тексте в соответствии с задачами, параметрами, которые ставит перед собой исследователь или разработчик программного продукта.
Речь идёт именно о понимании текста как единого целого, а не о детальном понимании отдельных элементов, образующих текст.
2. «Текст» в различных направлениях, семиотики (семиотических школах) может трактоваться по-разному: от нелингвистического явления, например, игры до многотомного произведения, например, роман Л.Н.Толстого «Война и мир» как целостный текст или цикл произведений, созданных разными авторами, но объединенных одними и теми же героями, например цикл романов «Звёздные войны».
3. Любой «текст» предполагает триединство:
а) автора с его идеями, задачами, стилем изложения и т.п.,
б) сам текст (в данном случае набор букв, символов и проч.) и
в) «читателя» (того, кто пытается воспринять содержание текста, как-то понять, исходя из определенных условий, задач).
Наиболее подробно все эти особенности рассматриваются в герменевтике. Нас же интересует вопрос об общем понимании текста, о соотнесении его с определенной темой или темами. В скорочтении этот прием называется «ознакомительное чтение или просмотр», задача которого определить, является ли просматриваемый текст «интересным» для читателя, в случае с компьютерной программой – соответствует ли содержание анализируемого текста заданным (искомыми) параметрам.
4. Таким образом, при компьютерном анализе содержания текста мы должны учитывать три основных фактора, каждый из которых представляет сложный комплекс различных элементов: а именно:
а) двойная субъективность (автора и читающего, анализирующего) и
б) объективность (сам текст, представленный в том или ином виде).
Сравните разные подходы к анализу текста, представленного в работах разных коллективов, занимающихся компьютерным анализом текста, Например, работы Ермакова А.Е. и коллектива украинских исследователей во главе с Гладун В.П.
5. Корректная компьютерная программа должна рассматривать текст как единую сложную семиотическую систему, отражающую все выше названные факторы. Именно целостность системы является основополагающей при корректном семиотическом анализе, игнорирование любого элемента системы, отношений между элементами могут делать результат анализа некорректным[28].
6. Общеизвестно, что любой текст обладает определённой избыточностью. Для выявления общего «значения» (понимания) текста существуют уже давно опробованные методики, используемые при обучению русского языка как иностранного или при освоении методики быстрого чтения. В обоих случаях происходит сжатие информации, вычленении самого главного.
7. При компьютерном анализе выявляются определенные элементы общего содержания текста. Например, коннотативный компонент (субъективное отношение автора текста к излагаемому материалу, теме) может отражаться в использовании аффиксов наи- … -ший, -ейший и др. или словами с оценочным значением (более, менее, плохо, лучше и т.п.).
8. Учитывая структурные особенности текста, его размер, линейность, необходимо обращать внимание на место, позицию ключевых элементов, связанных с анализом понимания текста (заглавие, начало абзаца, конец текста и т.п.). Кроме этого, необходимо учитывать длину предложения (включая парцелляцию) и т.п. Наши исследования показали, что наиболее длинные предложения, как правило, отражают наиболее главные темы, понятия текста.
9. Парадигматические и синтагматические отношения элементов текста (тем, понятий) можно выявить при анализе миниконтекстов, что позволяет не только выделять смежные, пересекающие смысловые поля текста, но и делает содержательный (понятийный) анализ текста более точным.
Д.В. Люсин, В.В. Овсянникова
(Москва, ooch@mail.ru)
Стилевые аспекты идентификации эмоциональных состояний
Данное исследование посвящено вопросу о том, каким образом люди идентифицируют эмоции других людей, и с чем могут быть связаны содержание и эффективность подобных оценок. Факт, что люди различаются по степени успешности распознавания эмоциональных состояний других, подтвержден эмпирически в ранних исследованиях распознавания эмоций (например, Ekman, 1979). Среди более поздних исследований есть те, которые направлены на выявление факторов, определяющих характер этих процессов и их успешность. В литературе в качестве факторов, влияющих на «чувствительность» разных групп испытуемых при восприятии невербальной информации, отмечаются их гендерные, возрастные и личностные характеристики, а также знания, стереотипы и другие когниции (Нэпп, Холл, 2006).
Ещё одним важным фактором, влияющим на точность распознавания эмоций, может являться стиль переработки информации, характерный для того или иного человека. Например, один наблюдатель будет обращать внимание на выражение лица человека, а другой будет ориентироваться в большей степени на то, что тот говорит. В связи с этим вызывает интерес исследование стилевых аспектов идентификации эмоциональных состояний. В нашем исследовании анализировалось, как люди оперируют информацией для понимания эмоционального состояния, в котором находится другой человек. Для этого проводился анализ индивидуальных особенностей организации когнитивной сферы наблюдателя, которому предъявлялась задача идентифицировать эмоциональное состояние другого человека.
В качестве когнитивных характеристик, определяющих стилевые аспекты распознавания эмоций, были взяты когнитивные стили. В работе анализировались три когнитивных стиля: полезависимость – поленезависимость, широкий – узкий диапазон эквивалентности и ригидность – гибкость познавательного контроля.
Таким образом, цель данного исследования заключалась в выявлении и исследовании взаимосвязей между особенностями (прежде всего точностью) оценивания эмоционального состояния и когнитивными стилями субъекта. Под когнитивными стилями принято понимать индивидуально-своеобразные устойчивые способы переработки информации и приобретаемого опыта в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании реальности (Холодная М.А., 2002).
Основная методика исследования была разработана с целью получения оценок эмоционального состояния другого человека испытуемым, которому для этого предъявляется видеозапись фрагмента его поведения. Методика представляла собой набор из 17-ти шкал - эмоциональных терминов. В инструкции испытуемому предлагается оценить эмоциональное состояние персонажа по набору шкал, согласно нескольким возможным вариантам ответа по шестибалльной шкале. На основании сопоставления оценок наблюдателей с оценками экспертов вычисляется точность идентификации эмоций персонажа наблюдателями.
Для диагностики когнитивных стилей использовались традиционные методики - «Тест Включенных Фигур», «Свободная сортировка объектов» (модифицированный вариант), «Тест словесно-цветовой интерференции Струпа».
В исследовании приняли участие 64 человека (64 % – женского пола) в возрасте от 18 лет до 32 лет (μ = 22,2, σ = 3,4), представители разных профессий и студенты.
Результаты. Получена корреляция (r = 0,292, p = 0,025) между точностью идентификации эмоций наблюдателем и когнитивным стилем «полезависимость - поленезависимость», то есть точность оценивания положительно коррелирует с полезависимостью. Также обнаружена связь точности идентификации эмоций наблюдателем с когнитивным стилем «ригидность – гибкость познавательного контроля» в сюжетах разной сложности. В «простом» сюжете точность оценки отрицательно коррелирует с показателем интерференции (r = -0,344, p = 0,009), то есть в данном случае точность оценки связана с полюсом гибкого познавательного контроля. Другая значимая связь, полученная при работе со «сложным» сюжетом, представляет собой корреляцию между сенсорно-перцептивным способом переработки информации и точностью оценки эмоций персонажа (r = - 0,284, p = 0,032). То есть, чем более независимо функционируют познавательные функции наблюдателя, тем точнее он идентифицирует эмоции другого человека.
Таким образом, показано, что стиль переработки информации может влиять на точность распознавания эмоций. Предполагается представить также результаты относительно связи когнитивных стилей наблюдателя со стратегиями, применяемыми им при идентификации эмоций.
Н.В. Максимова
(Новосибирск, maksimova1@mail.ru)
Моделирование процессов понимания на основе матричного метода анализа текста
Современная перспектива лингвистического моделирования процессов понимания видится в последовательном смыкании двух достаточно противоречивых сторон: 1) закономерностей функционирования языковых структур и образования их системных отношений и 2) закономерностей развёртывания коммуникативных ситуаций, их компонентов и в целом системы коммуникативного взаимодействия. Основная трудность заключается, на наш взгляд, в разработке такого метода лингвистического исследования, который исходит из представления о несводимости друг к другу, автономности и в то же время взаимодействии этих различных сторон единого, однако, объекта исследования – речевого поведения говорящего. Интегративной областью, позволяющей достаточно равноправно осуществлять такое смыкание, является область текста.
При этом одним из исходных является вопрос о границах процессов понимания. В методологическом плане продуктивной явилась попытка трансформации известной триады «знание – мнение – убеждение» и введение в качестве четвёртого оппозиционного звена – понимания, которое, в отличие от остальных компонентов парадигмы, всегда интенционально, относительно, интерсубъектно (В.И. Тюпа).
Понимание разворачивается тогда, когда есть непонимание. Ядро процессов понимания характеризуется напряжённостью диалогического взаимодействия, наличием зазора между различными точками зрения на один предмет – между как минимум двумя смысловыми позициями. В этом отношении специфическим объектом лингвистического исследования выступают текстовые формы чужой речи (ТФ ЧР). Ведущие характеристики ТФ ЧР, в отличие от фактов простого употребления чужой речи (ЧР) в тексте, – это ядерность отношений своё / чужое для интегральной семантической структуры текстовой формы, образование специфической для ТФ ЧР коммуникативной структуры (в единстве композиционного, тема-рематического и логико-смыслового параметров), а также соотнесённость с одной из единиц текстообразования – главным образом, со сложным синтаксическим целым
Метод моделирования процессов понимания, разворачиваемых в ТФ ЧР, в общем виде можно обозначить как последовательное соотнесение двух сторон анализа: 1) сопоставительного анализа языковых средств выражения отношений своё / чужое (в рамках «вариант – инвариант», «значение – форма – функция») и 2) реконструирования внеязыковых составляющих коммуникативной ситуации (в рамках «значение – контекст понимания – смысл», «адресант – референция – адресат»). Методика анализа базируется на динамическом взаимодействии признаков ЧР при функционировании различных способов её передачи, а также на диалектике логических и диалогических отношений в системе коммуникативных стратегий чужой речи.
Более специальным выступает метод моделирования текстовых форм посредством табличной формы матрицы. Этот метод, предложенный в исследованиях М.Я. Дымарского по отношению к общему описанию текстовых форм, в наших работах принят за основу описания текстовых ТФ ЧР и далее применён к описанию коммуникативных стратегий чужой речи. Можно видеть два взаимосвязанных последовательными отношениями уровня применения матричного метода: уровень описания коммуникативной структуры текстовой формы (1) и уровень описания коммуникативной стратегии (2).
(1) Текстовые способы презентации отношений «своё / чужое» представляют собой содержательные способы заполнения «матрицы сложного синтаксического целого, образуемой – по горизонтали – коммуникативно-синтаксическими позициями тем и рем высказываний и – по вертикали – собственно рядом высказываний» (М.Я. Дымарский). Если сам принцип образования матрицы текстовой формы является принципом структурным, то содержательное наполнение матрицы, в данном случае – семантическими отношениями «своё – чужое», – образует встречное движение. Взаимодействие структурного принципа организации текстовой формы и типов содержательного заполнения матрицы составляет текстовый способ презентации отношений своё / чужое и, соответственно, порождает модели текстовых форм, построенных на основе развёртывания отношений «своё / чужое».
Параметрами описания текстовых моделей ЧР являются: 1) композиционное место «чужого» на вертикали матрицы, 2) тематический / рематический статус «своего» относительно «чужого» на горизонтали матрицы, 3) тип медиатора – глубинного связочного компонента, на основе которого содержательно соотнесены «своё» и «чужое» (на «диагонали» матрицы). В этом состоит содержательный компонент заполнения матрицы, формирующий текстовые модели при развёртывании отношений «своё – чужое». Типы описываемых текстовых моделей формируются на основе этих трёх параметров, составляющих необходимые и достаточные условия для дифференциации текстовых форм чужой речи и описания их системы.
(2) Почему разные типы текстовых форм имеют различный «рисунок» чужой речи: с чем связан выход за границы предельной рематической вертикали в одних случаях и чем обусловлена сохранность её пределов – в других? На основе чего следует восстанавливать глубинные связки, если в поверхностной структуре текста связочные компоненты не представлены? Что означает место «чужого» в композиции текстовой формы? И главное: есть ли у системы текстовых форм чужой речи параметр собственно ценностный, мотивирующий выбор той или иной ТФ с точки зрения каких-либо интенционально-смысловых критериев? В полной мере ответить на эти вопросы возможно при обращении к понятийным категориям, лежащим в области описания коммуникативных стратегий (КС): в таком случае единицей анализа выступает не текстовая форма сама по себе, а развёртывание её структуры, взятое в соотнесённости с развёртыванием логической структуры позиции, – то есть единицей анализа выступает коммуникативная стратегия. Единство логической и коммуникативной структур, их динамическое взаимодействие, лежат в основе моделей коммуникативных стратегий чужой речи (КС ЧР).
Главное содержание метода квалификации моделей КС составляет принцип соотнесённости логической структуры позиции и коммуникативной структуры ТФ. Наглядной формой, фиксирующей модель КС, выступает табличная форма матрицы. Её специфика заключается в представлении 1) предельной ремы-чужое и по отношению к ней тема-рематического статуса «своего»; 2) вариантов композиции «инициальное-чужое – финальное-своё»; 3) макросвязок «своего» и «чужого»; 4) компонентов логической структуры позиции. Взаимодействие этих четырёх параметров, отображаемое в табличной форме, составляет основу методики описания каждой из моделей КС ЧР.
Е. М. Мартынова
(Орел, lm1973@mail.ru)
Невербальные средства проявления агрессии
и коммуникативные аномалии
Проблема понимания того, что скрывается за теми или иными динамическими невербальными проявлениями человеческого поведения привлекает внимание немалого количества исследователей.
На основе полисенсорной природы невербальной коммуникации выделяют различные ее виды: акустическую, оптическую, тактильно-кинестезическую и ольфакторную [Лабунская 1986: 33].
Помимо позитивной информации, невербальные каналы коммуникации могут передавать агрессивные намерения участников общения. Оптико-кинетическая система невербального поведения может характеризовать интенции говорящего как агрессивные с помощью соответствующей мимики, резких, быстрых жестов, гневного, пронзительного, продолжительного взгляда, а примером тактильно-кинестезического насилия, помимо открытой физической агрессии, может служить фамильярное похлопывание по плечу. С точки зрения проксемики, агрессивным следует считать сокращение благоприятной для собеседника дистанции общения, «нависание» над слушающим и т. д. Что касается ольфакторной системы, то некоторые естественные или искусственные запахи могут рассматриваться конкретным индивидом как агрессивные, что может отрицательно сказаться на ходе коммуникации.
Все виды невербальной коммуникации имеют огромное значение для понимания коммуникативного поведения собеседника, его скрытых интенций, но наиболее близка к вербальному взаимодействию акустическая система.
Об агрессии, передаваемой по акустическому каналу, могут свидетельствовать такие просодические элементы, как темп воспроизведения высказывания (быстрый, замедленный), модуляция высоты голоса (резкая), громкость голоса говорящего (высокая), неравномерный, прерывистый ритм, напряженность, интонация и т. д. Экстралингвистические элементы акустической системы передачи информации также могут отражать агрессивные интенции говорящего. Под экстралингвистическими элементами понимают характерные, специфические звуки, возникающие при общении: смех, плач, стон, шепот, вздохи; разделительные звуки (кашель); нулевые звуки (паузы); звуковые «назализации» («хм», «э-э») и т. д.
Суммируя все сказанное выше, можно согласиться с утверждением, что «произнесенное слово никогда не является нейтральным» [Куницына, Казаринова, Погольша, 2002: 79].
Помимо агрессии, невербальные средства могут отражать появление в коммуникации коммуникативных аномалий: коммуникативного конфликта, дискомфорта, коммуникативных неудач.
Среди факторов возникновения коммуникативных аномалий (коммуникативных сбоев) в невербальной сфере можно назвать факторы, характеризующие психофизические особенности коммуникантов, и факторы, относящиеся непосредственно к оформлению речевого высказывания.
Иллюстрацией первого вида может стать пример (1), в котором Анна испытывает коммуникативный дискомфорт, источником которого является не вербальное сообщение или противоречие между вербальными и невербальными составляющими коммуникации, а индивидуальные особенности голоса мужа, его интонации.
(1) Анна слушала его тонкий, ровный голос, не пропуская ни одного слова, и каждое слово его казалось ей фальшиво и болью резало ухо.
Когда началась четырехверстная скачка с препятствиями, она нагнулась вперед и, не спуская глаз, смотрела на подходившего к лошади и садившегося Вронского и в то же время слышала этот отвратительный, неумолкающий голос мужа. Она мучалась страхом за Вронского, но еще более мучалась неумолкавшим, ей казалось, звуком тонкого голоса мужа с знакомыми интонациями [Толстой 1981: 230].
Пример (2) напротив иллюстрирует ситуацию, в которой расхождение между тем, что говорится, и тем, как это говорится, приводит к коммуникативной неудаче.
(2) Сережа внимательно посмотрел на учителя, на его редкую бородку, на очки, которые спустились ниже зарубки, бывшей на носу, и задумался так, что уже ничего не слыхал из того, что ему объяснял учитель. Он понимал, что учитель не думает того, что говорит, он это чувствовал по тону, которым это было сказано. «Но для чего они все сговорились это говорить всё одним манером, всё самое скучное и ненужное? Зачем он отталкивает меня от себя, за что он не любит меня?» – спрашивал он себя с грустью и не мог придумать ответа [Толстой 1982: 102].
Понимание несовпадения информации, передаваемой вербальным путем, и данных, полученных по невербальному каналу, зачастую происходит на интуитивном уровне, на основе многолетнего опыта общения с людьми различных кругов. Нам представляется, что пониманию такого рода невозможно научить искусственными методами, классифицируя вероятные показатели расхождения данных. Только длительное взаимодействие способствует наиболее точному раскрытию коммуникативных и практических целей собеседников и глубокому пониманию выбора той или иной коммуникативной стратегии. Кроме того, необходимо помнить об индивидуальных психофизических особенностях коммуникантов и не путать их с проявлением противоречия между двумя взаимодополняющими системами коммуникативной интеракции.
Литература
Лабунская В.А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход). – Ростов-н/Д.: изд-во Ростов. ун-та, 1986.
Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
Толстой Л.Н. Собрание сочинений. В 22-х томах. Т. 8. – М.: Художественная литература, 1981.
Толстой Л.Н. Собрание сочинений. В 22-х томах. Т. 9. – М.: Художественная литература, 1982.
Е.М. Масленникова
(Тверь, Evgeniya.Maslennikova@tversu.ru; evegeniyam@mail.ru)
ПЕРЕВОД КАК МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА: ТЕКСТ-В-ДИНАМИКЕ
Вторичность перевода как деятельности включает текст перевода как результат переводческой деятельности во вторичную коммуникацию, когда текст оригинала получает новую жизнь в чужой для него системе переводящего языка. Множественность переводов вызвана таким свойством текста как трансформируемость в вариантно-инвариантной части текста, что в результате приводит к построению разных проекций текста у переводчиков. Текст оригинала признается моделирующей системой для всех его переводов, которые уславливаемся считать формально тождественными друг другу, и является эталоном, задающим закономерности структуры. Инвариантом перевода (в общем значении) будем называть то, что остается, как характеризующая текст оригинала постоянная величина, неизменным при переводческих (межъязыковых, межкультурных и т.д.) преобразованиях. В рамках существующих моделей перевода под инвариантом перевода понимаются разные понятия. В зависимости от подхода в каждой из моделей перевода выделяются различные понятия инварианта.
В модели закономерных соответствий выделены три категории соответствий: эквиваленты (не зависят от контекста как постоянные равнозначные соответствия), контекстуальные (вариантные) соответствия и переводческие трансформации. Под инвариантом перевода понимается понятийная часть знака.
Трансформационная или трансформационно-семантическая модель перевода применяет понятия и положения трансформационной грамматики Н. Хомского. Инвариантом является ядерная структура предложения на исходном языке, но инвариантность значения единиц трансформационного ряда не всегда приводит к инвариантности смыслов перевода и оригинала.
Семантическая модель перевода опирается на сопоставление элементов содержания двух текстов. Инвариантом является набор семантических компонентов как совокупность элементарных смыслов, образующих глубинную структуру.
Денотативная / ситуативная модель перевода исходит из того, что любое языковое сообщение всегда содержит определенную информацию о какой-либо ситуации действительности, а одну и ту же ситуацию можно описать с помощью разных наборов семантических компонентов. Инвариантом в данной модели будет предметная ситуация, описанную с помощью средств переводящего языка.
Модель уровней эквивалентности выделяет пять типов эквивалентности: на уровне языковых знаков, высказывания, сообщения, описания ситуации, цели коммуникации. На каждом уровне имеется свой инвариант.
В информационной модели перевода выделяется и оценивается содержащаяся в оригинале информация (уникальная, дополнительная, уточняющая, повторная, нулевая) в зависимости от ее коммуникативной ценности. Смысловые ошибки при переводе связываются с потерей и/или приобретением информации. Квант информации выступает как инвариант перевода.
Семиотическая / лингвосемиотическая модель перевода опирается на идеи и положения семиотики, выделяя в качестве языковых знаков только слова и словосочетания, не затрагивая уровень предложений и всего текста. В рамках данной модели инвариантом перевода будет значение знака.
Психолингвистическая модель перевода выделяет в качестве инварианта смысловой код, являющийся универсальным кодом.
Согласно жанровой теории перевода инвариант представлен жанровыми особенностями, которые подлежат воспроизведению в системе принимающей культуры и литературы.
В интерпретационной теории перевода под инвариантом понимают образную систему оригинала, национальный колорит и национальную ментальность.
В основе модели «Смысл«Текст», разработанной И.А. Мельчуком и А.К. Жолковским, лежит идея о существовании обобщенных универсальных смыслов в языке, выражаемых различными средствами. Асимметричность отношений внутри пары «Смысл-Текст» вызвана тем, что один текст может быть основой для нескольких интерпретаций, которые выявляют различающиеся полностью или частично системы смыслов. Смыслы, образующие смысловую систему текста и его основной метасмысл (художественную идею) могут быть синонимичными или омонимичными, полностью противоположенными. Смысловые варианты художественного текста определяются риторическим контрастом, амбивалентностью и комбинированностью смыслов. В рамках данной модели, инвариантом или системой инвариантов назван поэтический мир автора текста, реализующийся через мотивы, темы, их разновидности и совмещения.
Прагматическим инвариантом перевода признается коммуникативная или функциональная значимость текста перевода, обеспечивающая сохранение коммуникативного эффекта оригинала, его коммуникативной функции в новой системе литературы и культуры. Различают факультативные инварианты (сигнификативное значение), инварианты плана выражения (статистический инвариант как дословный перевод; структурно-синтаксический инвариант; стилистический инвариант).
Сложившиеся в рамках традиционного переводоведения представления о переводческом инварианте не учитывают того, что принципиальная языковая вариативность делает возможным сохранение инвариантного смысла текста оригинала разными языковыми средствами.
На современном этапе перевод начинает выполнять иные социально-культурные функции, когда выбор текста для перевода обусловлен в меньшей степени культурно-политическими требованиями, а в большей степени – внутренними потребностями переводчиков. В последнее время увеличилось количество тех, кого можно назвать электронными переводчиками или е-переводчиками, у которых отсутствует (в большинстве случаев) специальное филологическое, литературоведческое и т.п. образование, а работа над текстом идет исключительно в соответствии с собственными убеждениями как и что надо переводить Фактически перечисляемые нами выше принципы, лежащие в основе той или иной модели перевода, современными переводчиками, в особенности е-переводчиками не учитываются. В своей работе е-переводчик опирается на оценку, осмысление и / или переосмысление оригинала, что носит рефлексивный характер через установление связей имеющегося опыта с получаемой извне информацией. В авторе они видят своего активного партнера по коммуникации.
|
Tir’d with all these, for restful death I cry: As, to behold desert a beggar born, And needy nothing trimm’d in jollity, And purest faith unhappily forsworn, And guilded honour shamefully misplac’d, And maiden virtue rudely strumpeted, And right perfection wrongfully disgrac’d, And strength by limping sway disabled, And art made tongue-tied by authority, And folly, doctor-like, controlling skill, And simple truth miscall’d simplicity, And captive good attending captain ill – Tir’d with all these, from these would I be gone, Save that, to die, I leave my love alone. |
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж Достоинство, что просит подаянья, Над простотой глумящуюся ложь, Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор, И девственность, поруганную грубо, И неуместной почести позор, И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет, И глупость в маске мудреца, пророка, И вдохновения зажатый рот, И праведность на службе у порока.
Все мерзостно, что вижу я вокруг... Но как тебя покинуть, милый друг? (Перевод С.Я. Маршака) |
|
Достатый в пень, готов я жать на стоп: Мне жить в ломы, где пашут за ништяк, Где мазу держит оборзевший жлоб, Не ладит правда с истиной никак. Где честь за блеск подкатом смещена, Торгаш толкает телок за пятак; Где ясность совершенство зачмарена, Круть обувает в легкую – хиляк. Где режет языки авторитет, Где грозен фуфлогона умный вид, Где хмырь лажает искренность, как бред, Добро на цырлах перед злом стоит. Достатый в пень, я б дернул за стоп-кран, Да без кента сопьется корифан. (Вариация Паши Сушкина, 2000 г.) |
Когда ж я сдохну? До того достало, Что бабки оседают у жлобов, Что старики аскают по вокзалам, Что «православный» значит «бей жидов», Что побратались мент и бандюган, Что колесят шестерки в шестисотых, Что с загс приходят по любви к деньгам, Что лег народ с восторгом под сексота, Что делают бестселлер из говна, Что проходимец лепит монументы, Что музыкант играет паханам, Что учит жить быдляк интеллигента.
Другой бы схдох к пятнадцати годам – А я вам пережить меня не дам! (Перевод-вариация С. Шабуцкого) |
Правила и предписания, сформулированные для традиционного письменно–книжного перевода, для художественного (в том числе поэтического) е–перевода не действуют. Как показывает анализ современных поэтических е–переводов, «вывешенных» их авторами на многочисленных сайтах и форумах, они постепенно превращаются в некий «микс»–перевод, в котором смешались черты свободного (вольного) и пословно-буквального перевода, перевода–адаптации, перевода–подражания и т.д. Воспроизведение стилистических нюансов переводимого текста предполагает наличие умения творчески подходить к выполняемой работе наряду с использованием предварительно отработанных «технических» приемов и подбором оригинальных творческих эквивалентов для перевода.
Закрепленность образов, мотивов и т.д. в тексте через слово (ключевое слово), обладающее смысловой нагрузкой, позволяет выдвинуть гипотезу о признании инварианта ключевого слова, участвующего в образовании ядерного макро- или суперсмысла (художественной идеи). Ключевые слова текста образуют «каркас», вокруг которого группируются остальные смыслы. Сохранение набора ключевых слов оригинала обеспечивает смысловую наполненность текста, что дает в итоге равноценность двух текстов – оригинала и перевода. Текст становится неким культурным феноменом, истоки которого связаны со словом, в котором преломляется привычное понимание вещей.
А.Н. Минка
(Таганрог, index919@yandex.ru)
Прагматическая направленность рекламного текста
Огромная роль в процессе коммуникации людей принадлежит языку, функцией которого является информирование и воздействие.
«Современная индустрия сознания, используя многовековой опыт, разрабатывает новые способы манипулирования массовым сознанием, многие из которых используются в рекламе» [Лившиц 1998,11].
Реклама формирует и стимулирует спрос на товар, заставляя потребителей обратить на себя внимание, подчеркивает превосходные качества предмета рекламы и тем самым побуждает потребителя действовать, т.е. покупать. Таким образом, отличительной особенностью рекламы является позитивная прагматическая направленность.
В арсенал средств, оказывающих воздействие на адресата, включаются различные содержательные и структурные формы, роль которых - увеличить силу воздействия, сделать сообщение наиболее ярким и запоминающимся, внести экспрессивную тональность в рекламный текст.
Среди усилительных лексических, грамматических, стилистических, фонетических и графических средств в текстах рекламы наиболее распространены:
1.Олицетворение или одушевление.
An unavoidable visit for those who love jewels with
character …(Aureli Bisbe).
2. Повтор.
We live it, We love it, We know it (Atlantic tours).
3. Интригующие вопросы.
Косвенные заголовки, оформленные с помощью провокационных и интригующих вопросов привлекают внимание читателя, заставляя прочитать весь рекламный текст, чтобы понять их смысл. Техника создания косвенных заголовков включает вопросы, проблемы и различного рода головоломки.
Where`s the best place for exciting taste? (Old El Paso Beans).
Did you ever meet our Expectations!!!(Aberdeen Tours)
Вместо вопросительного знака предложение оформляется с помощью восклицательного, что усиливает экспрессивную функцию данного рекламного текста.
4. Синтаксический параллелизм.
You leave the details with us…
We leave the rest to you…
В данной рамочной конструкции обыгрывается ЛЕ rest, которая означает «все остальное» употребляясь с артиклем и основное значение которой «отдых».
В некоторых англоязычных рекламных текстах заложено национальное представление о традиции и гармонии, что придает им характерный национальный дух и отличает от рекламы других стран. Рекламный текст может быть написан в форме лимирика, так называемого короткого четырехстишия, характерного для английского языка:
A lady with 25 kids and a rabbit
Preferred Ally Pink Salmon and bought it from habit
“It tastes just like red”.
Well, that`s what she said
And my kids are real happy to have it” (Pink Salmon).
5. Антитеза (противопоставление).
Barcelona Zoo is one of the oldest and the most modern in the world.
6. Устойчивые сочетания.
For salads to make you smile, say cheese (Australian cheeses). Реклама сыров. В английском языке словосочетание say cheese означает «улыбнитесь».
7. Перефраз крылатых выражений. В рекламном тексте могут быть использованы хорошо известные всем фразы или перефразы из стихов, песен, книг и тд.
Weather`s-Great-wish-you-were-here insurance (Travel Insurance Company).
8. Каламбур, юмор, игра слов.
Easy and cheesy (реклама сыров). В большинстве рекламных текстов используется игра слов.
Лексическая единица cheesy в данной рекламе проявляет два значения: 1) сырный, 2) сленговое значение «модный». Кроме того, употребление ЛЕ Easy убеждает покупателя в минимальных затратах труда при применении данного рекламированного товара. Реклама не столько содержит характеристику реальных свойств и качеств товара, сколько стремится убедить покупателя приобрести данный товар путем заложенного в нем эмоционального созначения [Леонович 2002, 101].
9. Рифма.
Twice as Nice (Delta hotels) реклама гостиницы.
10. Синонимы. We hope to whet your appetite and incite your curiosity.
11. Омофоны.
The write stuff (реклама дискет).
В данной рекламе обыгрываются слова-омофоны «right» (нужный, правильный) и «write» (писать).
Важную роль играет экспрессивный синтаксис.
Здесь наиболее значимой воздействующей силой является звуковая организация текста.
Это преимущественно фонетически ориентированная стратегия, основанная на паронимической аттракции текста и слова, ассоциирующегося с письменными принадлежностями.
12. Эпитеты.
The Setting is Classic,
The Food is Superb,
The Music is Magical (Norman Inn) – реклама гостиниц
13. Графическое выделение слова.
Diamond
Emerald
Amethyst
Ruby
Emerald
Sapphire
Topaz (Goldmark jewelers)
Название кольца “DEAREST” выделено по заглавным буквам драгоценных камней, инкрустированных в данное изделие. Само название представляет собой прилагательное dear (дорогой) в превосходной степени.
14. Аллитерация.
Sand, Sea, Sun, Spain, Seclusion – песок, море, солнце, Испания, уединение. (реклама пляжей в Испании).
Warm waters, warm welcomes (Nova Scotia) - реклама турагенств.
Прагматическая направленность является решающим фактором в определении логического и эмоционального написания рекламного текста, его модальности и диктует выбор языковых средств.
Литература
Леонович О.А. В мире английских имен. М., 2002, 101.
Лившиц Т.Н. Лингвистические аспекты некоторых приемов манипуляции массовым сознанием (на материале рекламы)// Сборник научных трудов аспирантов и преподавателей ТГПИ, ч. 3, Таганрог, 1998.
М.Ю. Михеев
(Москва, m-miheev@rambler.ru)
Поэтика Платонова позднего периода («Возвращение» 1946-1951): недоговоренность и намек
Рассказ Андрея Платонова под названием «Возвращение» при жизни не публиковался, в 1946 г., за 5 лет до смерти писателя, появился первый вариант – «Семья Иванова», подвернутый жестокой критике со стороны тогдашних бесспорных авторитетов советской литературы А.Фадеева и В.Ермилова[29], после чего автор доработал его, дав рассказу иное название[30]. При этом неверно считать, что Платонов пошел на уступки критикам, скорее даже напротив, в чем-то он усилил именно те стороны, за которые его ругали[31].
Достаточно хорошо известны, уже описаны такие характерные приемы платоновского письма, как использование грамматической, стилистической неправильности, неоднозначность, введение шероховатостей в свой язык, имитация детской речи, так называемые «сращения смысла», «спрямления», когда в едином синтаксическом выражении, отступающем от правил языковой сочетаемости, как бы сконденсированы сразу несколько смыслов, заимствованных из разных фразеологических оборотов. Это поэтика анаколуфа, характеризующая зрелого писателя, видна и в позднем творчестве, но к ней добавляются новые черты, которых раньше не было или которые проявлялись в меньшей степени. Кроме неоднозначности, сдваивания значений, Платонов все чаще включает в свой текст чужое слово, чужую речь, а также намек.
Уже в первой фразе рассказа встречаем выражение, стилистически отмеченное как канцелярский оборот, но в непривычной форме, с нарушением грамматического вида: Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации[32]. Комментарий И.А. Спиридоновой: “Форма официального документа, военного приказа, предполагает использование глагола совершенного вида «убыть», который означает: «выбыть из состава чего-л. (вследствие увольнения, отпуска, смерти и т.п.)» (Словарь русского языка: В 4 т. Т. 4. М., 1988. С. 447). Платонов меняет вид глагола на несовершенный и получает эффект длящегося, незавершенного действия-процесса («убывал», «убывающий»), наполненного не только внешним (социальным), но и внутренним (психологическим) содержанием и чреватого разными драматическими возможностями. Таким образом, первое предложение аккумулирует в себе не только содержание начальных эпизодов рассказа (проводы Иванова в воинской части и его отъезд домой), но содержание всего произведения, его сюжетный нерв и проблематику.” – Напрашивается как бы и такой, привходящий смысл: <будто вся армия могла почувствовать убыль такого своего члена или звена, как один капитан Иванов>[33]. В окончательной версии рассказа в этом же абзаце появляется как бы еще дополнительно «кольцующее» этот неологизм причастие – убывающий. Именно таково построение текста – с парными «перекличками» наиболее важных по содержанию ключевых слов в рассказе. Здесь череда повторов, лексических перекличек в мотивах, оказывается отработанной до совершенства[34]. А вот обычный у Платонова силлепсис (Нонака), из второй фразы рассказа: ...Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. – Последние два слагаемые добавлены тут в сочинительную конструкцию как бы противозаконно, так же как незаконно само упоминание этих запретных в соцреализме сюжетов – выпивки и особенно супружеских измен. Или обычные платоновские неловкости речи, недоговоренности авторского описания, порождающие новые смыслы при взаимодействии вне непосредственного синтаксического подчинения, при описании героини, также из начала рассказа: Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым телом. – Что такое «была добра руками или телом»? – Не очень понятно (ведь герой только смотрит на нее). Может быть, у девушки были большие, как говорится в просторечии, «добрые», руки? На заднем фоне тут как будто сквозят, неясно просвечивая, следующие смыслы: <она была простодушна>, <добродушна>, <с большим, ладным (или плотно сбитым?) телом> или даже ?-<она не слишком жалела свое тело>. Или вот, уже почти в конце рассказа, в окончательной версии, Платонов заменяет стилистически нейтральное слово – маркированным, неправильным, передающим скорее речь самого героя, Иванова, чем авторскую: Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети... – что вставлено вместо прежнего, в журнальном варианте: ...у него родились дети. – Дело в том, что платоновский капитан Иванов – и сам, по сути дела, ребенок. Так же точно мог бы сказать его сын: да он так и говорит. Вот Петрушка подхватывает отцовское слово, обращаясь к плачущим матери и сестре: Чего вы все?.. Настроеньем заболели… – это почти сразу после произнесенного отцом: Так, значит, в общем ничего, говоришь, настроение здесь было у вас? – Но и само употребленное отцом словцо тоже не собственное, а заимствовано – из чужой речи, из армейской жизни, как бы из стандартного обращения командира к своим солдатам, для ободрения: «Ну, как настроение, бойцы?», или может быть, из официальной газетной риторики, где в контексте осуждения часто упоминались в то время чьи-то «упаднические настроения».
Автор пользуется и таким описанным уже приемом, который можно назвать «неоправданно-широким увеличением перспективы»: так, у него говорится, что в окружающей героев осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен отсюда увезти домой Машу и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве (последнее обстоятельство добавлено в позднейшей редакции). Здесь вводится повторное упоминание мотива. Но смысл неопределенного, как бы безразмерного пространства усилен, подчеркнут еще и введением третьего по счету компонента (также в последующей редакции рассказа) – определения героини, попутчицы Иванова, как дочери пространщика (служащего в бане).
Кроме обычных платоновских неоднозначностей типа рассмотренных выше, совмещений нескольких значений, кроме интерференции различных точек зрения (автора, героев, различных «сторонних» голосов), кроме расширения перспективы события, как бы уводящей в бесконечность пространства, в этом рассказе Платонов пользуется еще намеком, недосказанностью, или подтекстом, что для прежних его произведений было не так характерно. В целом подтекст возникает в тех случаях, когда происходящее «на глазах» читателя, на сюжетном уровне, не проговорено буквально – ни словами автора, ни в прямой или косвенной речи кого-либо из героев. Из-за этого в сюжете возникают лакуны, заполнение которых необходимо для понимания текста, но оно может происходить исключительно на уровне предположений: буквально же и в точности они не «вычисляются», оставаясь содержательными недосказанностями – того или иного рода.
Рассказ вмещает в себе семь дней из жизни капитана Иванова – от его встречи с девушкой Машей, дочерью пространщика, на вокзале, до «возвращения» – принятого героем окончательно решения – отказаться от поездки к Маше и возвратиться в семью, после чего он спрыгивает с подножки и действительно возвращается – навстречу бегущим за поездом детям. За все время рассказа, по моим подсчетам, происходит 11 смен хронотопа и имеется в наличии по крайней мере 12 разных сцен – то есть с разным составом участников, происходящих в разное время и в разном пространстве.
Итак, существенно новое в поэтике послевоенного рассказа-шедевра Платонова – это недосказанность, намек. Вот примеры умолчаний разного уровня, или степени:
(0) Жена Иванова Люба простодушна, она не умеет скрыть присутствие в доме постороннего человека, ее «выдает» младшая дочь, которая приберегает отложенную от обеда часть пирога, как она говорит, для «дяди Семена». На объяснение матери о том, что она не знает, кто такой этот Семен Евсеевич, который ходит к ним в дом играть с детьми – Отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папиросу. – Это я называю умолчанием0, то есть нулевой степени, смысл которого сам собою понятен, однозначно восстанавливается из контекста. – Иванов взбешен, его подозрения «оправдываются», у него теперь есть «явные» аргументы, чтобы уличить жену в неверности.
(0,1) Сын Петрушка сначала пытается отвлечь отца от расспросов о знакомом матери дяде Семене, а потом как будто специально выгораживает, защищает ее от обвинений отца (может быть, и обвиняя его самого): «Он старей тебя — Семен Евсеич!.. Он нам пользу приносит, пусть живет» – это звучит как защита (умолчание0) и еще как укор отцу: <от тебя-то пользы нам все это время не было>. В последнем случае это уже умолчание1, о котором, возможно догадывается сам отец и может вычитывать из текста читатель (зритель).
(+1) Лежа на печке (он делает вид, что спит, хотя давно проснулся от громкого разговора родителей) сын как будто слышит то, что не мог на самом деле увидеть глазами: Петрушка расслышал, что в глазах ее [матери] были большие остановившиеся слезы. – Здесь уже умолчание на уровне некого чуда, объясняемого сыновним вчувствованием, сопереживанием матери (можно назвать это – умолчанием+1).
(2) А вот внутренняя речь Иванова, когда он после рассказа сына про «дядю Харитона» и его жену напуган, ему мерещится, что сын ясновидец: «Вот сукин сын какой! — размышлял отец о сыне.— Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас...» Отца охватывает ужас, и может быть, именно поэтому (или: еще и поэтому) он решает уйти из дома (можно считать это умолчанием-догадкой2, то есть уже второй степени, наиболее сложным).
(-1,2) Когда жена говорит Иванову: «страшно было, что ты никогда к нам не приедешь», – читатель может это понять, соотнеся с только что произошедшими событиями – встретившейся герою по пути девушкой Машей, с которой он чуть было не уехал, чтобы «начать новую жизнь». В подтексте остается, что он мог действительно не возвратиться домой, как наверное не приехали множество фронтовиков, заведя другую семью «на стороне», то есть совсем по другой причине, чем та, о которой думает и от которой начинает плакать Люба – не просто погибнув (это конечно было наиболее реально). Можно назвать такой случай одновременно и умолчанием-1 (минус первой степени, не восстановимым для героини) и – умолчанием2 (для читателя, восстановимым, но с напряжением ума, догадкой). Таких совмещений – то есть умолчаний разного уровня сложности, для разных героев – можно найти множество.
Наконец, последнее: одной из кульминаций в сюжете этого рассказа я бы назвал тот момент, когда Люба, расплакавшись за приготовлением пирога (она мажет его сверху жидким яйцом перед тем как поставить в печь), продолжает, не замечая того, – смазывать праздничный пирог слезами. До того читателю было сказано, что она готовит пирог-скородум (очевидно, замешанный без дрожжей, что можно было приготовить на скору руку). И вот теперь своеобразной «закваской» пирога становятся женские слезы. Тут еще и оксюморон: пирог праздничный, а на слезах. (Это подтекст, снова умолчание, уже и не знаю в какой степени.)
Литература
Михеев М.Ю. В мир А.Платонова через его язык. Предположения, факты, истолкования, догадки. М. МГУ. 2003.
Нонака Сусуму. О силлепсисе в «Котловане» Платонова // Творчество Андрея Платонова. Вып. 3. СПб. 2004.
Спиридонова И.А. А. Платонов «Возвращение». Комментарий // Спиридонова И. А. «Внутри войны» (Поэтика военных рассказов А. Платонова). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005, с.181–182. (Краткое изложение темы киносценария с условным названием "Семья Иванова" – там же, с.170).
Арто Мустайоки
(Хельсинки, arto.mustajoki@helsinki.fi)
Выражение иметь в виду как один из элементов ситуации коммуникативной неудачи
[Аннотация:] В выступлении будут проанализированы реальные речевые ситуации, в которых говорящий / автор текста считает нужным комментировать свою речь или речь других с помощью выражения иметь в виду.
Т.Б. Назарова
(Москва, pririna80@yandex.ru)
Кросс-региональный перевод ключевой бизнес-терминологии в связи с решением проблемы понимания
1. Решению проблемы понимания в освоении английского языка делового общения способствует планомерное введение в систему и процесс обучения общеупотребительной, или ключевой, бизнес-терминологии. Одним из распространенных методических приемов является движение от термина к толкованию его значения (или значений) и далее к распространенным морфосинтаксическим и лексико-фразеологическим сочетаниям, например: share → one of a number of titles of ownership in a company → to acquire/buy/ have/hold/own/sell shares; to allocate/allot shares; to deal in/invest in/trade in shares; to float/issue shares; to affect the value of one’s shares; allegations of illegal share dealings.
2. Толкование, или дефиниция, «переводит» слово общего языка в разряд бизнес-терминов. Сравни: General English share – a part of a total number or amount of something that is divided between several people or things; Business English share – one of a number of titles of ownership in a company. Онтология перевода в обучении деловому английскому не ограничивается преобразованием слова общего языка в консубстанциональный термин.
3. Англо-русский перевод синхронизирует ключевой бизнес-термин и его русскоязычное соответствие, тем самым в еще большей степени содействуя преодолению трудностей понимания, например: share – акция; share capital – акционерный капитал; share certificate – сертификат акции. Аналогичным образом, синхронизация англоязычного и русскоязычного толкований ведет к более глубокому проникновению в специфику того или иного бизнес-термина или терминологического сочетания, например: shareholder – a person who owns shares in a company; акционер – лицо, владеющее акциями компании; annual general meeting – a formal meeting of the shareholders and directors of a company; ежегодное общее собрание – официальное ежегодное собрание акционеров и директоров компании.
4. На современном этапе развития теории и практики делового английского возникает необходимость и в такой разновидности перевода, которая учитывает региональное варьирование современного английского языка. Имеется в виду «кросс-региональный перевод» (англ. cross-regional translation), заключающийся в последовательном выявлении тех пар терминов-соответствий, каждый из которых маркирован регионально, т.е. отмечен принадлежностью одному из двух ведущих региональных вариантов – британскому английскому (British English/BrE) или американскому английскому (American English/AmE), например: BrE share – AmE stock; BrE shareholder – AmE stockholder; BrE shareholding – AmE stockholding; BrE shareholder equity – AmE stockholder equity; BrE shareholder of record – AmE stockholder of record; BrE shareholder value – AmE stockholder value; BrE share index – AmE stock index; BrE share issue – AmE stock issue; BrE share offer – AmE stock offer; BrE share option – AmE stock option; BrE share price – AmE stock price.
5. Противопоставление «британский английский – американский английский», столь существенное для синхронного описания современного английского языка, неизбежно претерпевает изменения в диахронии. Один из регионально маркированных элементов может со временем нейтрализовать свою региональную «отмеченность», становясь неотъемлемой частью общеанглийской литературной нормы (Standard English) и, как следствие, появляясь в авторитетном толковом бизнес-словаре без указания на региональную принадлежность, например: в новом издании Oxford Dictionary of Business English (Oxford University Press, 2005) все монолексемные и полилексемные производные от термина share перечислены как общеанглийские и сопровождаются перечнем соответствий из американского английского. В этих и многочисленных подобных случаях изучающим деловой английский предстоит передвигаться не от британского английского к американскому, а от общеанглийского пласта терминологии к американским синонимам.
А.Е. Некрасова
(Москва, anekrasova@mail.ru, anna.nekrasova@gmail.com)
Создание и восприятие этнических стереотипов в средствах массовой информации (на примере англо-французских стереотипов в британской качественной прессе)
В современном мире проблема стереотипов в коммуникативных взаимодействиях приобретает все большую актуальность. Благодаря глобализации на первый план выходят такие ценности как толерантность и понимание между представителями различных культур, но стереотипизация культурных различий может мешать проявлению этих ценностей в коммуникации. В последнее время появилось множество исследований, посвященных проблеме стереотипизации, но большинство из них просто констатируют наличие стереотипов, не анализируя того, какими языковыми средствами эти стереотипы реализуются в дискурсе. Исправить этот недостаток помогает дискурсивный анализ, позволяющий выявить те механизмы, которые при интерпретации дискурса вызывают у адресата тот или иной стереотип.
В качестве материала данного исследования была выбрана британская качественная пресса, поскольку хорошо известно, что средства массовой информации являются одним из основных источников стереотипов. Для анализа были выбраны англо-французские стереотипы как достаточно показательный пример устоявшихся культурно-специфичных представлений членов одного дискурсивного сообщества о другом. В результате проведенного исследования удалось выявить следующие наиболее существенные приемы (вос)создания стереотипов:
· использование французского слова в английском тексте;
· использование специальных конструкций и слов, «тянущих» за собой особые смыслы (инференции);
· введение стереотипа в пресуппозицию, где он не может быть оспорен;
· реализация автостереотипа через остраннение путем описания якобы инокультурной ситуации.
Использование французского слова в английском тексте
Этот прием зачастую используется авторами, чтобы показать, что упоминаемое явление характерно для другой нации. Например, см. в статье How to tell a guy from un garçon: one’s not afraid to dress like his father (Mark Tungate, 18.10.2005, The Times):
Despite the exchange of garments, a couple of centuries later British and French dress styles remain as different as chalk and fromage.
Здесь обыгрывается известная идиома to be as different as chalk and cheese. При этом употребление французского слова fromage активирует стереотипическое знание о том, что сыр – это нечто, характерное для французов.
Этот же прием используется в самом заглавии статьи. Он позволяет без лишних слов показать, что речь идет о сравнении англичан и французов. Использование этого приема в английском тексте возможно потому, что во многих английских школах первый изучаемый иностранный язык – французский. Кроме того, англичане и французы – соседи, поэтому многим британцам знакомы простые французские слова, их не нужно переводить на английский.
Специальные конструкции и слова, тянущие за собой особые смыслы (инференции).
К числу подобных слов можно отнести такие союзы и оценочные наречные слова, как but,
no longer, unusually и многие другие.
Этот прием используется, например, в статье They really do say ‘oh la la’ П. Майла от 5 апреля 2004 года (The Guardian). Автор пишет следующее:
I am no longer surprised, when eating with French friends, that a great part of the conversation around the table is not about politics, sport or sex, but about food.
Оборот “no longer” навязывает интерпретацию, в рамках которой читатель исходит из того, что раньше автор испытывал удивление, когда французы за столом говорили о еде. Но почему это должно было казаться ему удивительным? Потому что англичане за столом говорят не о еде, а о политике или спорте. Можно пойти дальше в предположениях. Почему же англичане, в отличие от французов, не говорят о еде во время приема пищи? Видимо, здесь существуют разные культурные традиции.
Об употреблении слова unusually можно судить по примеру из статьи Paris offers EU newcomers crash course in French (Kim Willsher, 7.03.2004, Daily Telegraph):
Unusually, the French are not blaming Britain
В эту вполне нейтральную фразу о том, что французы не винят англичан в уменьшении популярности французского языка в результате распространения английского, одно только слово «unusually» сразу же привносит дополнительный смысл и разрушает всю нейтральность предложения, делая из него характеристику французов. Подразумевается, что обычно в своих лингвистических (а может, и других) неудачах французы винят англичан.
Реализация автостереотипа путем описания якобы инокультурной ситуации.
Известно, что стереотипы гораздо больше говорят о тех, кто их создал, чем о тех, на кого они направлены. Часто, описывая ситуацию во Франции, автор одновременно, возможно невольно, «выдает» ситуацию, характерную для Англии, и наоборот. Как один из примеров этого можно привести отрывок из статьи Under the skin of a French obsession (Helena Frith Powell, The Sunday Times, 23.10.2005):
The reason I’m researching underwear is that, having lived in France for five years, I want to be able to walk into a room and not be immediately recognised as an English woman. I want the indefinable and alluring chic that French women have.
Говоря о том, что французские женщины одеваются с шиком, и ей тоже хочется иметь французский шик, автор статьи тем самым невольно показывает, что англичанки это шика не имеют.
Введение стереотипа в пресуппозицию, где он не может быть оспорен.
Пресуппозиция – это, согласно большинству авторов, «пропозиция, которая должна быть правильной для того, чтобы анализируемое предложение имело смысл, то есть могло бы быть либо правдивым, либо ложным» («a proposition which must be true for the sentence in question to have a truth value, that is to say for the sentence to be true or false» - Renkema Y. Discourse Studies. 1993, c. 154). Обычно читатель или слушающий не склонны подвергать пресуппозиции сомнению. Примером использования пресуппозиции для создания стереотипа может служить цитата из статьи Sabine Durrant “If looks could kill”, опубликованной 13 ноября 2005 года в газете Telegraph:
You'd say she had a very French directness.
Этот стереотип подан как пресуппозиция (“French are direct”), поэтому его существование не вызывает у читателей вопросов. Здесь французский автор, зная, что пишет для английской газеты, вставляет так называемый disclaimer - выражение “you’d say”. Этим она дистанцируется от точки зрения ее английских читателей на французов и одновременно демонстрирует представление о существовании стереотипа о французском коммуникативном стиле.
Эти и многие другие примеры при использовании метода дискурсивного анализа позволяют не только описать стереотипы, представленные в газетных текстах, но и показать, какими языковыми средствами данные стереотипы создаются. Это, в свою очередь, дает возможность глубже рассмотреть механизмы интерпретации и, в частности, то, каким образом у читателя после прочтения статьи возникает (или находит подтверждение) тот или иной социокультурный стереотип.
Ю.Д. Нечипоренко
(Москва, nech99@mail.ru)
Понимание в переживании: физический театр
(восприятие театрального действия и физической теории)
«Теория» и «театр» родственны: они происходят от греческих слов θεωρέω «смотреть на зрелище», «присутствовать на зрелище», и θέατρου – «зрелище», соответственно. Это позволяет проследить родство таких удаленных в контексте современной культуры явлений как театр (зрелищное действие) и теория (система определенных воззрений) [1]. Театральные действия античности, в которых принимало участие почти всё взрослое население полиса в Древней Греции, не нуждались в понимании в современном смысле этого слова: считается, что смысл этих действий был известен зрителям заранее, речь шла о ритуальном воспроизведении и переживании этого действия. Немалую роль здесь играло вовлечение в театральные действия античной молодёжи, воспитание на примерах поведения героев и богов. Передача информации посредством «живого примера» является до настоящего времени самым важным каналом воспитания. Эта передача зиждется на принципе «самоподобия»: «по образу и подобию своему» создал библейский Бог человека, по генетическому и поведенческому подобию «создаются» родителями дети.
Воспроизведение структурных свойств человеческих сообществ и передача знаний, ценностей и установок в Древнем Мире производилась при помощи мифо-ритуальных действий. Эти действия были синкретичными: наука, религия и искусство были неразделимы. Театр и наука наследуют части некогда единой картины мира. Механизмы понимания театрального действия с его невербальной, образной компонентой в виде визуальной и музыкальной составляющих и понимания физической теории, в которой линейная последовательность слов и формул приводит к формированию двух- или трехмерной картины мира с образными по сути представлениями оказываются сходными. Для усвоения студентами физических представлений существует практика демонстраций: на столе в аудитории «разыгрываются» коллизии между катящимися шарами, демонстраторы показывают эксперименты по оптике и электромагнетизму.
Демонстрационные опыты напоминают театр, только «действующими лицами» здесь оказываются не люди, а тела со своими массами, объёмами и прочими «чисто физическими» характеристиками. С другой стороны, мифо-ритуальные представления, известные нам по мифам Шумера и Вавилона, напоминают по структуре современные физические теории. Шумерская богиня Инанна ведёт себя как “беззаконная комета в кругу расчисленных светил” [2]. Обнаруженная нами связь древней мифологии и современной физики позволила предложить концепцию «Физического театра» [3]. Всякий театр в каком-то смысле является физическим: если по сцене движутся тела актеров, вещи и декорации, имеющие определенный размеры и цвет, то зритель помимо более или менее удачной игры актеров видит еще и "игру тел". Происходит перемещение вещей, изменения форм: высот, наклонов и объемов, и эти все трансформации воздействуют на зрителя как на сознательном, так и на подсознательном уровне.
На физическом факультете МГУ вот уже четыре года действует «Физический театр». Свои представления он показывает дважды в году – на День Физика, в мае – под открытым небом, на ступеньках факультета, и в декабре, на заключительном концерте фестиваля самодеятельности. Эта практика «корпоративных праздников» напоминает организацию мифо-ритуальных действий в древности, когда отмечались самый длинный и самый короткий день в году. От непрофессиональных актеров трудно требовать создания глубоких "образов", но можно ждать построения физических картин. В представлении Физического театра участвуют, как правило, большие куклы – в рост человека. Если такую куклу потрясти, поднять и опустить, наклонить и уронить - возникнут «живые картины», геометрические формы и динамические образы. Все эти действия выявляют степени свободы вещи. Но кукла, даже и такая простая, как пугало, глубоко символична. Этот образ человека обладает определенным характером, несет некий смысл. Лишенная живой целостности личности кукла оказывается механической моделью тела. Но механика может быть живой. В этом таинство Физического театра: тело куклы «оживает» на миг по велению своего "водителя". Кукла, как оживший иероглиф, способна показать и передать определенный психологический жест.
Физический театр моделирует явления жизни с помощью движения простых предметов, кукол и чучел. Представление "Превращение истины" (декабрь 2004 года) прошло на физическом факультете МГУ в учебной – Центральной физической аудитории. Общее мнение аудитории после представления: «Здорово, но непонятно». Произведение искусства не стоит судить по тем же критериям, что и скажем, лекцию или статью, в общем, некое "произведение науки" или "произведение образования". "Понятность" - вовсе не главный критерий для оценки произведения искусства. Главное в искусстве - художественная целесообразность, то есть создание всеми имеющимися в распоряжении театра средствами живого впечатления, передача переживания.
Физический театр использует стереотипы восприятия "демонстрационного" стола в учебной аудитории: но в театральном представлении по этому столу катают не шары и цилиндры, как в курсе механики, а девушку - исполнительницы роли Истины. Боги Тверди методом такого "холодного проката" создавали оттиски Истины, которые были предназначены для передачи людям. Метафоры и образы могут быть сложными и непонятными для неподготовленного зрителя, но вспомним высказывание поэта Александра Введенского:
Нас непонятное пленяет,
Необъяснимое наш друг.
В мае 2006 года на ступеньках физического факультета была показана опера "Герой и Гений". Опера демонстрирует судьбы двух выпускников факультета: один идет в бизнес, становится настоящим Героем нашего времени, добивается успеха и получает все: славу, деньги, женщин, власть. Другой же много лет работает в науке, совершает великое открытие - и умирает. Посмертная слава приходит к Гению. Консультантом этого спектакля выступил известный художник и музыкант Герман Виноградов (Бикапо), который помог освоить актеру игру на "установке", в роли которой выступал станок, увешанный китайскими колокольчиками и другими звонкими предметами. Гений играл на установке, звоня в колокольчики, создавая "музыку сфер"…
Физический театр старается соединить в своих спектаклях представления науки и образы искусства. Понимание как физических теорий, так и театральных постановок невозможно без образного восприятия и эмоционального переживания. То, что родство «теории» и «театра» лежит в сфере зрелищности, оказывается принципиально важным фактом, позволяющим сблизить столь удаленные друг от друга явления, как физика и театр.
Литература
Нечипоренко Ю. «Царский жанр» Журнал «Новая Юность» 1-2, 1998. См. также работу «Физика мифа».
Нечипоренко Ю. «Корпоративный театр» в сборнике «Контуры лиры – 2» (Поэзия, Проза, Театр), в печати.
Павленко А. «Теория и театр». СПб, Изд-во С-Петербургского университета, 2006, 234 с.
О.В. Низковская
(Кемерово, l_etrange@bk.ru)
Дискурсивные характеристики политической коммуникации
По мнению А.Н. Баранова суть развитой системы политической коммуникации заключается в обеспечении возможностей для достижения общественного согласия. Тем самым роль политика заключается не просто в том, чтобы скрывать свои мысли, а в том, чтобы, скрывая одни мысли и не скрывая других, стремиться к принятию таких решений, которые в той или иной мере удовлетворяют всех членов социума. Только это может обеспечить нормальное функционирование законодательной и исполнительной власти. Совокупность всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом, образует политический дискурс (Баранов 1997).
Дискурс в рамках данного исследования понимается как социальное действие, выполняемое пользователями языка в процессе общения друг с другом в социальных ситуациях в рамках того или иного общества и культуры в целом. Вербальная деятельность участников коммуникации направлена на выполнение соответствующих социальных задач.
Говоря, непосредственно, о политическом дискурсе, Е.И. Шейгал отмечает, что политика как специфическая сфера человеческой деятельности по своей природе является совокупностью речевых действий (Шейгал 1998). Как и всякий другой дискурс, политический дискурс имеет полевое строение, в центре которого находятся те жанры, которые в максимальной степени соответствуют основному назначению политической коммуникации - борьбе за власть. Это парламентские дебаты, речи политических деятелей, голосование.
Политик – личность, призванная объединять вокруг себя население, служить для него определенной фигурой защиты. Лидеры нации высоко оцениваются тогда, когда они не только могут увидеть будущее, но и способны увлечь население именно туда (Почепцов 2000).
Достижение политических результатов возможно только в сообществе и благодаря действиям сообщества. Поэтому любой политик для того, чтобы добиться успеха, должен уметь формировать у этого сообщества соответствующее мировосприятие. Политик и те, кто ему помогает, должны сформировать определённые стереотипы и концепции, носящие абстрактный характер (Кузьмен 1998).
Различия между политиками состоят не столько в разном восприятии действительности, сколько в способности использовать для отражения своего восприятия разные слова.
Любое сообщение, особенно политическое, должно преодолеть ряд фильтров, чтобы достичь своего слушателя. Мир переполнен сообщениями, а потому эта задача столь актуальна. Типичной особенностью поведения современного человека становится не вслушивание в очередное сообщение, а попытка уйти от его получения и понимания.
Общественное предназначение политического дискурса состоит в том, чтобы внушить адресатам – гражданам сообщества – необходимость «политически правильных» действий и/или оценок. Цель политического дискурса – не описать, а убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию. Поэтому эффективность политического дискурса можно определить относительно этой цели (Демьянков 2003).
Интерпретируя политический дискурс в его целостности, нельзя ограничиваться чисто языковыми моментами, иначе суть и цель политического дискурса пройдут незамеченными. Понимание политического дискурса предполагает знание фона, ожиданий автора и аудитории, скрытых мотивов, сюжетных схем и излюбленных логических переходов, бытующих в конкретную эпоху (Шапочкин 2005).
Политику следует знать, как данная аудитория способна воспринять то или иное сообщение, чтобы моделировать его соответствующим образом. Кроме того, содержание сообщений должно варьироваться не только в зависимости от особенностей восприятия, специфики интересов и потребностей разных целевых групп, но также и от стадии проведения кампании. На начальном этапе сообщения должны быть ориентированы прежде всего на то, чтобы заинтересовать адресатов информационного воздействия, на последующих стадиях – чтобы оказать воздействие на их мнение или поведение и, наконец, на завершающем этапе – чтобы заверить тех, кто принял желаемую точку зрения или сделал соответствующий выбор, что они поступили разумно и правильно (Грачев 2004).
Если поступающая от политика новая информация не соответствует существующим представлениям, она может быть не воспринята или искажена. Если необходимо, чтобы информация была воспринята, она должна быть очень заметной. Политик должен создать категориальный аппарат, по которому его можно легко узнать (Кузьмен 1998).
Однажды выбранная схема поведения в определённых ситуациях даёт возможность действовать более эффективно, хотя, может быть, и не столь вариативно.
Необходимость поиска путей воздействия на общественное мнение с целью "продажи" политических идей приводит к возникновению разного рода текстов. Их правильное и эффективное использование стало важным условием продвижения политика к власти [Ермаков 2004]. Можно сказать о том, что речевой портрет политика состоит из целого набора взаимообусловленных и взаимосвязанных черт, содержательной и коммуникативной природы. Как правило, этот портрет не предъявляется обществу непосредственно, но имеет вид приблизительной и не всегда точной копии, благодаря усилиям СМИ, Интернета и общественного мнения.
Л.К. Никифорова
(Екатеринбург, Nikiforova@ueip.ru)
Язык один, а цели разные…
Ученые расщепили атом. Теперь атом расщепляет нас. (Квентин Рейнолдс)
Коммуникация это процесс взаимодействия между субъектами социокультурной деятельности (индивидами, группами, организациями и т.п.) с целью передачи или обмена информацией посредством принятых в данной культуре знаковых систем (языков), приемов и средств их использования1). В процессе общения участники коммуникации пытаются не только передать информацию, подтвердить ее или опровергнуть, но внести конкретные изменения в коммуникативный процесс, чтобы изменить мнение собеседника, повлиять на его дальнейшие высказывания, сделать его проводником своих идей. При осуществлении коммуникативного процесса эффективность взаимодействия коммуникантов напрямую зависит от правильности выбора речевых методов воздействия.
В настоящей статье мы хотим рассмотреть вопрос взаимодействия и взаимопонимания по отношению к атомной энергетике (далее АЭ).
Возникающие при этом проблемы, на наш взгляд, могут быть вызваны:
- базовым образованием,
- стереотипами, выработанными по отношению к данному вопросу,
- нежеланием глубоко изучить, понять рассматриваемый вопрос.
Филолог может репрезентировать свое представление о специалисте естественных наук следующим образом: «…Что такие профессионалы делают с природой, с нашим домом: поворачивают реки вспять, выбрасывают тонны токсинов в реки…Такие люди становятся рабами желаний, теряют свою человеческую сущность – свободу. Именно такие люди изобрели атомную бомбу – они не смогли выбрать между добром и злом»2). В ответ можно апеллировать к мнению физика-атомщика: «Атомная отрасль стала стрежнем экономики России, одним из столпов могущества нашего государства3).
Это проблемы коммуникации в гуманитарном и естественнонаучном дискурсе, проблемы диалога культур. Каждый исследователь пытается найти свой путь преодоления такого коммуникативного недопонимания.
Особое место в создании «мостика коммуникации» может принадлежать переводчику (чаще всего филологу по образованию), работающему на предприятии.
В настоящее время, когда остро встает вопрос о снабжении страны надежными, экологически чистыми и достаточно дешевыми источниками энергии, все чаще заходит речь об изменении отношения к АЭ, о необходимости «отделить мух от котлет». Анализ истории развития отрасли позволяет выделить следующие этапы ее развития:
1. Возникновение мирной атомной индустрии, родившейся из ядерного оружия периода «холодной войны». Существует твердое убеждение, что энергия дешевая, атомное производство абсолютно безопасное, наблюдается повышенный интерес к освоению новой специальности: ядерной физики. Профессия популярна, высоко оплачиваема, престижна.
2. Чернобыльская авария, произошедшая 26 апреля 1986 года, разделила атомную отрасль, да и весь мир на «до» и «после». Все чаще раздаются призывы к полному отказу от использования АЭ. Резко уменьшается число желающих становиться профессиональными физиками-ядерщиками.
3. Настоящий период, именуемый «ядерным ренессансом», характеризуется постепенным возвращением от «экологически ущербного» нефтегазового комплекса к АЭ. Однако появляется проблема со специалистами.
Метафоре отводится особое место в ведении диалога, поскольку именно «метафора является мощным средством преобразования существующей в сознании адресата политической картины мира»4), с ее помощью можно не только проследить за ментальными процессами коммуникантов, но и воздействовать на их мировосприятие.
Большая часть литературы об АЭ, радиации, ее воздействии на человека написана, как правило, профессионалами для профессионалов, либо профессионалами, не очень задумывающимися об эффективности речевого воздействия, не умеющими умело пользоваться лингвистическими приемами. Используемые ими метафоры, как правило, не отличаются новизной. Ср.: В истории покорения атома в нашей стране есть много ярких страниц, и, наверное, главная из них – создание мощного ядерного щита3).
Журналисты же, весьма активно эксплуатирующие эту тему относятся предвзято и, чаще всего, обладая недостаточными знаниями по данному вопросу, весьма выгодно представляют материал, используя богатые метафорические образы. Ср. «Атомная энергетика - это дракон, который не только отравляет всё живое на Земле, но и пожирает все те средства, которые человечество могло бы потратить себе на пользу»5).
Поскольку важнейшим постулатом современной политической лингвистики является дискурсивный подход к изучению текстов, то изучение каждого конкретного текста с учетом используемой политической ситуации, платформы, личности адресата и адресанта, позволит определить ту роль, которую текст, или люди, пользующиеся языковыми возможностями текста, могут играть в политической жизни страны.
Литература
Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т.1. – СПб.: Университетская книга; 1998. С.316.
Философия и наука: Материалы третьей межвузовской научно-практической конференции аспирантов и соискателей «Философия и наука». Екатеринбург, 21 апреля 2004 г. / Урал.гос.пед.ун-т.- Екатеринбург, 2004. С.59-60.
Бюллетень по атомной энергии № 5, 2005 г. С.5.
Чудинов А.П. Метафорическая репрезентация в современной политической коммуникации: Монография / Урал.гос.пед.ун-т.- Екатеринбург, 2003. С.63.
Болясный А., специально для NuclearNo.ru, 3 апреля 2006. Кошмар без ретуши."Круглый стол" накануне 20-летия трагедии. http://nuclearno.ru/text.asp?10684
А.П. Новикова
(Красноярск, bruchar@mail.ru)
Русскоязычные интернет-тексты суицидальной тематики: модус и прагматика
Грань между информированием и воздействием очень тонка. «Взрывное развитие практической психологии и совершенствование технологий управления информационными потоками посредством массмедиа апокалипсически дополнили друг друга, создав поистине гремучую смесь, которая способна лишить человечество будущего» [Пугачёв 2005:8]. «Одним из основных факторов, модифицирующих языковое общение, является развитие телекоммуникационных, компьютерных сетей, и, прежде всего, Интернет» [Коретникова 2006:155]. Всеобщая доступность Интернета сделала его дополнительным источником информирования, отсутствие цензуры в плане тематических ограничений сделала его источником опасного воздействия.
Факт ситуативного копирования, подражательного поведения, вследствие обострённо пережитого катарсиса не нов. Известен «феномен Вертера», когда текст И.В. Гёте «Страдания юного Вертера» был запрещён в некоторых европейских странах ввиду чрезвычайно реалистично изображённых картин переживаний и суицида главного героя. Тогда по Германии прокатилась волна самоубийств молодых людей. «Впервые научно исследовал феномен Вертера и подобные ему факты американский учёный Д.П. Филипс в 70-80 гг. ХХ столетия. На основе данных статистики он установил, что после серии публикаций о самоубийствах количество людей, погибающих в авиакатастрофах, увеличивается на 1000%. Кроме того, резко увеличивается число дорожно-транспортных происшествий и количество погибших в них людей. Этот факт объясняется в первую очередь тем, что многие психически неуравновешенные люди в публично описанных самоубийствах находят как бы легитимированную, одобренную обществом подсказку для подобного решения собственных проблем» [Пугачёв 2005:113].
Эмоционально-экспрессивный компонент добавляет в текст оценочность и в большинстве случаев принуждает адресата испытывать определённые чувства и реакции (сопереживать, негодовать, соглашаться/не соглашаться и т.д.), так как совокупность оценочных речевых жанров «выходит за пределы общения как обмена информации и предполагает влияние на социальное самочувствие и ценностные ориентиры адресата» [Шмелёва 1992:7].
Предполагается, что в текстах определенной тематики (например, суицидальной) наличие оценочности может быть опасно. Вдвойне опасно, когда оценочность сопровождается императивным насыщением текста: экспрессия вызовет определенные эмоции, императив, возможно, претворит эти эмоции в акте суицида. «Цель их [императивных высказываний] – вызвать осуществление/неосуществление событий, необходимых, желательных или, наоборот, нежелательных, опасных для кого-либо из участников общения» [Шмелёва 1990:91]. «Специфика этих [императивных] предложений состоит в том, что они используются для апеллятивного общения и в принципе не требуют ответной речевой реакции. Их назначение – вызвать какое-либо конкретное действие» [Храковский, Володин 1986:7]. Готовность же реципиента к реализации акта суицида может быть вызвана заблаговременно (возможно, даже служила мотивацией к поиску определенного тематического сайта в Интернете). В свете вышесказанного можно предположить наличие в анализируемых текстах манипулятивного элемента (запланированного или незапланированного автором текста).
Гипотеза: автор кибертекстов суицидальной тематики является потенциальным суицидентом (вероятнее, эгоистический или аномичный тип, по классификации Э. Дюркгейма [Дюркгейм 1998]). Речевая специфика данных текстов по отношению к адресату носит манипулятивно-провокационный характер и может вызывать поведенческую реакцию реципиента в виде суицидального акта.
Объектом данного исследования является семантика русскоязычных интернет-текстов (кибертекстов) суицидальной тематики.
Материал исследования: интернет-дискурс соответствующего содержания (сайты и чаты сети Интернет).
Цель данной работы: исследовать специфику модуса суицидальных интернет-текстов и их прагматическую составляющую.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
- найти черты императивности в указанных текстах;
- выявить особенности категории оценки;
- проследить наличие социальных маркеров;
- обозначить специфику взаимодействия обозначенных выше категорий с категорией манипуляции;
- исследовать отношения между участниками коммуникации;
6. выявить особенности речевого портрета автора текстов суицидальной тематики, определить, является ли он потенциальным суицидентом.
Основные методы, применяемые в процессе исследования: методы анализа и интерпретации текстов, сравнения и систематизации, метод семантического анализа. Анализ текстов указанной тематики предполагается проводить с пониманием их принципиального разделения на монологовые и диалоговые. Под монологом в данной работе понимается текст, не предполагающий непосредственную ответную реакцию адресата (в отличие от чата – диалогового текста), то есть автор остается в неведении, как отреагировал на информацию реципиент.
В ходе исследования было выявлено следующее:
- очевидна маркированность текстов суицидальной тематики такими категориями как императивность, оценочность, социальные показатели;
- особая выделенность выше перечисленных категорий связана с использованием их в манипулятивных целях. Подтверждающим этот вывод являются следующие наблюдения.
В кибертекстах были выявлены признаки манипуляции: наличие психологического воздействия, явный и скрытый характер воздействия, игра на самолюбии, побуждение.
Манипуляция включает в себя подготовительную и практическую стадии, «которые составляют единый манипуляционный процесс» [Пугачев 2005:87]. Среди этапов подготовительной стадии были обнаружены следующие:
1. «определение мишеней, т.е. тех психических структур, на которые направляется воздействие и которые обладают мотивационной силой» [Там же: 88]. Мишенями служили ценности и потребности человека: жажда славы, внутренней свободы и свободы вообще, гордость, подчинение исключительным авторитетам и протест против авторитета толпы (общества);
2. «выбор адекватных мишеням стимулов и приманок. Стимулами <…> служит все то, что <…> может удовлетворить <…> потребности или желания, в том числе удовлетворить честолюбие, укрепить самоуважение и т.п., а приманкой – то, что помогает привлечь внимание адресата к стимулу…» [Там же:88]. В случае с сайтами стимулы – это игра на самолюбии, обретение свободы, исключительности и т.п., приманки – это графика текста, колорит, использование фото и т.п.;
3. «выстраивание сценария (технологии) манипуляции» [Там же:88] (данный этап особенно свойствен монологичным текстам, под «сценарием» здесь понимается продуманная композиция текстов).
Также были выявлены практические манипуляционные действия:
«установление контакта с адресатом, подстраивание к нему, налаживание раппорта, доверительных отношений» [Там же:89] (использование «ты-конструкций», обращений типа «друзья», вовлечение автора в ситуацию «текстового» суицида как соучастника (пробовавшего или собирающегося попробовать);
«применение стимулов и приманок, побуждение с их помощью адресата к действию» [Там же:89].
Литература
Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. - С.-П.: Союз, 1998. - 494 с.
Коретникова Л.И. Контаминация языков в компьютерно-медийном дискурсе // Проблемы речевой коммуникации.– Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2006. – Вып. 6. С. 155-160.
Пугачёв В.П. Управление свободой. – М.: КомКнига, 2005. – 272 с.
Сергеева Д.А. Русская речь в чатах // Проблемы речевой коммуникации.– Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2006. – Вып. 6. С. 160-165.
Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 696 с.
Храковский В.С., Володин А.П. Семантика и типология императива. Русский императив. – Л.: Наука, 1986. – 272 с.
Шмелёва Т.В. Повседневная речь как лингвистический объект // Русистика сегодня. Функционирование языка: лексика и грамматика. – М., 1992. С.5-15.
Шмелева Т.В. Речевой жанр: Возможность описания и использования в преподавании языка // Русистика. Берлин, 1990. №2. С. 20-31.
Annotation: This information is a result of analyze Internet-language and Internet-communication (suicide subject).
В.А. Нуриев
(Москва, nurievv@mail.ru)
Переводческие флуктуации
Изначально следует определить, что же является так называемой флуктуацией, и как она связана с коммуникативными проблемами при переводе. Условно процесс речевой коммуникации можно представить в виде схемы: адресант – информация – адресат. Этот процесс обладает свойством интерактивности (предполагает непосредственную обратную реакцию и спонтанное изменение общего содержания и характера коммуникации, обусловленное этой реакцией, а также динамическую инверсию коммуникативных ролей, в результате которой каждый из участников совмещает в себе и адресанта, и адресата). Схема межъязыковой коммуникации осложняется присутствием дополнительного опосредующего элемента – переводчика (см. [Комиссаров, 1997: 13-16]). А наш случай коммуникативного акта (перевод художественного текста) представляет собой еще более модифицированную форму общей коммуникативной ситуации, поскольку одним из коммуникантов выступает текст, зафиксированный в письменной форме. Интерактивность коммуникации снимается (отсутствует). Обратная реакция носит крайне вероятностный характер (тотально виртуализируется), существуя только в форме переводческого предвосхищения. Понимание оригинального текста осложнено в плане авторской интенциональности – в силу своего письменного представления с этой точки зрения текст не является абсолютно «прозрачным» (смыслопроницаемым). Вместе с тем можно утверждать, что постижение авторского намерения достаточно значимо для художественного перевода, особенно учитывая одну из его основных задач – воспроизведение первоначального коммуникативного эффекта средствами родного (принимающего) языка (в этой связи см. [Левый, 1974; Тороп, 1995; Чуковский, 1968]). Так что же такое переводческая флуктуация в этом отношении? Известно, что перевод (в частности, художественный) как процесс состоит из целой последовательности переводческих действий-решений с целью достичь определенного коммуникативного эффекта. Достижение этого эффекта возможно с помощью разных языковых средств выражения, которые могут как приближаться с тем, что использованы в оригинальном речевом произведении, так и крайне удаляться от оных. Такое, подчас неожиданное, изменение переводческого сценария, во многом уже заданного первоисточником, можно обозначить флуктуацией, то есть отклонением. Идея более подробного изучения переводческих флуктуаций родилась из наблюдений за отношением к переводу, а также к возможности перевести «очень по-разному», которую в отдельных случаях предоставляет оригинал.
Во-первых, нередко в разных текстах (спектр их варьируется от публицистики до художественной литературы) встречаются примечания переводчика, подобные тому, что приведено ниже: «Хотя я и старался сохранить дух оригинала, все же приношу свои извинения тем, кому покажется, что я недостаточно точно передал смысл их слов» [Тангейт, 2006: 18]. Возникает несколько вопросов, в частности, что такое, например, «дух оригинала», или, насколько сохранение этого самого «духа оригинала» может характеризоваться точностью?
Во-вторых, в художественном тексте, в особенности иноязычном, встречается немало случаев, когда предложение не предполагает однозначного соответствия в языке перевода. Например, в книге французского писателя Бенуа Дютёртра «Gaité Parisienne»* мы встречаем следующее высказывание, реализованное в форме сложносочиненного предложения: «Il décida toutefois de se rendre à Deligny : d’abord parce que l’endroit lui plaisait, ensuite par curiosité, et peut-être encore dans l’éventualité d’une amourette» (буквальный перевод - Он решил все-таки отправиться в Делини: прежде всего, потому что это место ему нравилось, потом – из любопытства, и еще, наверное, из-за возможности любовного приключения – перевод наш, В.Н.). Во избежание калькирования и следуя логике коммуникативного членения исходного текстового отрезка, сначала попробуем поменять порядок следования компонентов внутри отдельных частей сложного предложения. В результате мы имеем: «Он все-таки решил отправиться в Делини: прежде всего, потому что ему это место нравилось, потом – из любопытства, и еще, наверное, из-за возможности любовного приключения». Далее в последней части можно изменить союз и на да, что еще больше приблизит высказывание к форме внутреннего монолога. И еще остается сложный атрибутивный комплекс с двойным генетивом в той же третьей составной части предложения, который стилистически несколько утяжеляет русский вариант. Его можно заменить на в смутной (какой-то) надежде на любовное приключение. Таким образом, получается: «Он все-таки решил отправиться в Делини: прежде всего, потому что ему это место нравилось, потом – из любопытства, да еще, наверное, в [смутной] надежде на любовное приключение». Возникает вопрос о смысловой точности конечного высказывания и о его соответствии первоисточнику. Заметим, что в той или иной степени все указанные трансформации соотносимы с определенными единицами ориентирования в оригинале, в частности, прилагательное смутный, например, мотивировано присутствием неопределенного артикля une, а словосочетание в надежде соотносится с dans l’éventualité, которое также можно перевести как в предвидении. В русском варианте можно было бы еще ввести во-первых, во-вторых, в-третьих вместо прежде всего, потом и еще. Dans l’éventualité можно переводить и как в предчувствии и т.д. Как правило, переводные варианты, даже при всем их многообразии, не сильно отличаются друг от друга. Однако иногда различия достаточно существенны.
Третьим основанием для более подробного изучения переводческих флуктуаций стал нижеследующий своеобразный эксперимент. Суть его состояла в том, чтобы перевести поэтическое произведение автора, устойчиво воспринимаемого в принимающей культуре как прозаика, в поэтической и прозаической форме, чтобы уяснить, изменяется ли коммуникативный эффект в зависимости от формы выражения. Языковым материалом стало стихотворение Бориса Виана «Последний вальс». Его трудно переводить, сохраняя ритмику, из-за параллелизма синтаксических конструкций, на котором автор выстраивает всю смысловую систему. На этапе «перевыражения» оригинальной системы смыслов средствами принимающего языка вдруг начинается отклонение от заданного подлинником поэтического сценария. Возникает оно, в том числе, и как результат размышлений о том, сохранять синтаксические и лексические структуры оригинала или же делать акценты на смысловом наполнении? Так ли важна эстетика ритма? Как достичь переводческого консенсуса на стыке оригинала и перевода?*
В поэтической форме перевод принимает такой вид:
|
La dernière valse Boris Vian Dernier journal Dernier croissant Matin banal Des passants Et c'est la fin du problème Dernier soleil Dernier atout Dernier café Dernier sou Adieu, je m'en vais de vous
Dernier hôtel Dernier amour Dernier baiser Dernier jour Adieu, les choses que j'aime Dernier remords Dernier cafard Dernier décor Dernier soir Je m'en vais sans au revoir
Dernière valse et pas de lendemain Mon cœur n'a plus de peine Dernière valse à l'odeur du jasmin Et les quais de la Seine
Dernier bonsoir Un peu à vous Dernier tout Dormez, la nuit est si calme Dernier trottoir Dernier mégot Dernier regard Dernier saut Plus rien qu'un grand rond dans l'eau...
|
Последний вальс Борис Виан Последний лист упал к ногам, Последний круасан на блюде. Прохожих вереницей смутен Забрезжил утренний бедлам. Похоже, больше нет проблемы, Рассвет унес ночную муть, Решая расставанья путь Как неизбежный ход дилеммы. Разлитый кофе на столе. Нет денег, есть лишь только мысли; Я ухожу – последний козырь: Его не жаль, секунды вышли.
Привычка странная отеля – Амурный акт. Поникли плечи. Дыханье поцелуя прочит Последний день угасшей встрече. Повсюду вещи, что любимы, Следы тоски, переживанья. Вечерняя истома пахнет Истекшим сроком расставанья.
Последний вальс, жасмина нота. И сердце больше не грустит. Последний вальс уходит прочь. На набережной скоро ночь.
Вам прошепчу я «Добрый вечер». Надежда, крадучись, вернется. Но ожиданье новой встречи С приходом ночи оборвется. Забудьтесь сном. На тротуаре Лежит окурок, Взгляд пороча. Прыжок. Круги… И «Доброй ночи».
|
В прозаической форме:
Продолжаю жить ритмом последнего вальса. История моя неторопливо двигается к своей развязке. Закрыта последняя страница газеты. Привычное начало дня. Сохнет, ожидая, круасан. Банальное утро. Прохожие. Вчерашние проблемы разлетаются, как испуганные голуби. По-прежнему ласковое солнце. Остывает кофе. Как-то незаметно кончились деньги. Прощайте, я ухожу.
Гостиничный номер, привычное место для любовных игр. Поцелуй еще алеет на подушке. Хочется запомнить каждую вещь, как кусочек лоскутного одеяла. Мой мирок. Отношения с людьми. Со временем они тонут в угрызениях совести, их заволакивает грусть. С вещами иначе. Да, запомню их вот так, в вечерней сумеречной дымке и уйду, не попрощавшись.
У последнего вальса нет завтра. Сердце знает и принимает без горечи. Запах жасмина и последний вальс на набережной.
В небрежно брошенном «Добрый вечер» немного надежды, немного безысходности, понемногу всего. Спите, ночь дышит спокойствием. На тротуаре тихо тлеет окурок. Взгляд задевает за него… и тухнет. Прыжок. Круги на воде…
Переложение в прозе, действительно, можно признать результатом внезапного отклонения от искомого сценария (то есть результатом «переводческой флуктуации»). На предпереводческом этапе (на этапе первичного восприятия текста) такая задача не ставилась. Прозаический перевод возник как срединное ответвление поэтического, где-то между первым и вторым куплетом. А уже потом пришла идея проверить коммуникативный эффект на читателях, хорошо знакомых с творчеством Б. Виана*. Примечательно, что коммуникативный эффект был примерно равноценный с той лишь разницей, что респонденты поэтической экспериментальной группы высказывали некоторое удивление в связи с наличием самого стихотворения, авторство которого принадлежит Б. Виану.
Конечно, если учесть историю создания оригинала, то ни тот, ни другой варианты перевода не могут быть признаны удовлетворительными. Оригинальное стихотворение создавалось для переложения его на музыку. В последствие его исполнил известный французский шансонье Серж Реджани (Serge Reggiani). Предположительно оно предназначалось исключительно французской публике, причем, скорее всего, даже не всей, а лишь определенной ее части. Однако, принимая во внимание тот факт, что песня так и не была представлена в русской культуре, можно пренебречь первоначальной коммуникативной задачей, рассматривая переводимое произведение лишь как часть творчества Б. Виана (причем часть, русскому читателю преимущественно не известная).
Таким образом, само изучение «переводческих флуктуаций» попутно затрагивает и другие вопросы, в частности, в рамках художественного перевода. Например, насколько достижение искомого коммуникативного эффекта оправдывает выбор средств (выразительные) для его достижения, если они резко отличаются от выразительных средств оригинала.
Литература
Комиссаров В.Н. Коммуникативные концепции перевода // Перевод и коммуникация. М., 1997.
Левый И. Искусство перевода. М., 1974.
Тороп П. Тотальный перевод. Тарту, 1995.
Чуковский К.И. Высокое искусство. М., 1968.
Справочные издания
Гак В. Г., Ганшина К. А. Новый французско-русский словарь. – М., 1998.
Le Petit Robert. – Paris, 1997.
Источники языковых примеров
Тангейт М. Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara. М., 2006.
Duteurtre B. Gaité Parisienne. Paris, 1998.
О.И. Опарина
(Москва, oloparina@yandex.ru)
Изучение концептуальных полей как элемента в познании культуры
1. В последнее время когнитивная лингвистика, исследующая язык как объект и средство познания окружающего мира, привлекает все большее внимание ученых.
Вопрос осознания феномена культуры для формирования национального и государственного единства весьма существенен. Опираясь на понимание культуры, данное в работе Б.А. Успенского «Семиотика культуры», можно сказать, что культура – это рамочная структура, навязывающая определенный тип поведения и мотивацию поступков. Мотивация поступков опирается на систему ценностей, созданных обществом в течение своего существования. Общность культуры – важный элемент идентификации человека.
Язык вобрал в себя все основные представления об окружающем мире, а также принятые в той или иной культуре реакции на ряд явлений, действий людей и их поступков. Окружающий мир выступает как природный мир и как общество. Взаимоотношения человека и природы отражают древние представления, зафиксированные в языке, в частности, первичные, базовые эмоции, реакции. Согласно целому ряду исследователей страх является одной из таких эмоций.
2. Рассматривая концепт как ментальное образование, на формирование которого культура, обычаи, традиции наложили огромный отпечаток, а также как «пучок представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, которые сопровождают слово» [Степанов], можно утверждать, что концепт страх образует концептуальное поле. Концептуальное поле, в свою очередь, состоит из лексических единиц, отражающих всю палитру ассоциаций и представлений, характерных для лингвистической культуры народа.
3. В рамках лингвокультурологического подхода интересно сравнить концептуальное поле страх в английском и русском языках. При сопоставлении учитывается ряд факторов:
- этимология, для выявления первоначальных, базовых ассоциаций, представлений, которые лежали в основе семантики лексических единиц;
- современное значение и коннотации слов, изучение семантических признаков в синхронии;
- сопоставление элементов концептуального поля по семантическим признакам общим для английского и русского языков.
4. Важным шагом, безусловно, является составление концептуального поля страх в английском и русском языках.
Чувство страха может подчинить человека, сделав его исполнителем чужой воли. Оно также является стимулом бесстрашного, мужественного поведения. Общество стремится систематизировать человеческие эмоции и преобразовать их в поведенческие схемы. Принимая во внимание психологические и философские исследования в данной области, целесообразно рассматривать трусость и храбрость/мужество как элементы концептуального поля страх и говорить о существовании таких поведенческих категорий, как трусость и храбрость в рамках этого концептуального поля.
5. Изучение этимологии слов позволяет выявить ряд общих семантических признаков (первоначальных компонентов значения слов, корней) общих для русского и английского языков. (Страх, трусость – ‘дрожь, тряска’; ‘оцепенение’, ‘аналогии с поведением животных в экстремальных ситуациях’; ‘зависимость от силы, власти’. Храбрость, мужество – ‘отсутствие страха и его проявлений’; ‘мужское начало, обязанности’; ‘аналогии с физическими свойствами: твердость, весомость, заметность; дерзость предприимчивость’).
6. Рассмотрение семантических признаков в синхронии на материале современных словарей позволяет сделать вывод о частичном сохранении первоначальных семантических признаков и увеличении количества лексических единиц определенной семантики (лексические единицы с семантическим признаком ‘риск’, ‘предприимчивость’ в английском языке).
7. Концептуального поля страх в английском и русском языках демонстрирует как общее в видении мира носителями этих двух культур, так и различия. Количественное преобладание представлено в английском языке, также прослеживается уточнение разных аспектов значения в русском и английском языках, особенно в той части концептуального поля, в которой представлены лексические единицы, относящиеся к бесстрашию.
8. Концептуальное поле страх представляет собой лишь определенный сегмент языка, однако весьма существенный.
При изучении иностранного языка лингвокультурологический аспект является существенным не только для таких специальностей, как филология, история, политтехнологии, где язык выступает в качестве одного из основных предметов, но и для не лингвистических специальностей. Основное предназначение любого языка – общение. Правильное понимание культуры, психологии, мировоззрения носителя языка – это один из факторов успешного общения на разных уровнях и в различных ситуациях представителей двух (или более) лингвистических культур.
П.Б. Паршин
(Москва, pparshin@mail.ru)
Рефлексия
формы текста в коммуникации:
опыт типологии
1. Соотношение формы и содержания естественноязыкового текста осознается как проблема по меньшей мере со времен античности, и число различных подходов к ее пусть не решению, но экспликации и концептуализации очень велико. Различие подходов, помимо прочего, определяется разнообразием исследовательских целей и тем, какая область деятельности является «выгодополучателем» соответствующих изысканий. В рамках предложенных концептуализаций давно уже выявлены очевидные антиномии (например, тезис об отсутствии полных синонимов при изобилии синонимических языковых выражений) и предложены откровенно диалектические формулировки (скажем, известный из эстетики тезис о содержательности формы и формальности содержания).
2. Никоим образом не претендуя на какие-либо общие решения, я хотел бы, развивая соображения, некогда изложенные в [1] и развитые в [2-4], предложить некоторую сугубо частную типологию, в которой проблема соотношения формы и содержания рассматривается (а) в связи с проблемой понимания в коммуникации, (б) с прагматических позиций и (в) в интересах прежде всего теории речевого воздействия.
3. Начну с любимого и уже обсуждавшегося мною (напр., [5]) примера из «Приключений капитана Врунгеля» А.С. Некрасова. Врунгель, когда его старпом Лом назвал в песне их судно, маленькую яхту «Беда» корветом (Я старший помощник / С корвета «Беда» / Его поглотила / Морская вода), мысленно прореагировал на эти слова следующим образом: «…насчет корвета он, конечно, несколько преувеличил. Какой там корвет!.. А впрочем, это своего рода украшение речи. В песне это допускается. В рапорте, в рейсовом донесении, в грузовом акте, конечно, такая неточность неуместна, а в песне — почему же? Хоть дредноутом назови, только солиднее звучать будет».
В этом наблюдении заключено утверждение, которое я предлагаю назвать «принципом Лома-Врунгеля» и которое сводится к тому, что различия между языковыми формами значимы тогда, когда это прагматически существенно для участников диалога, и незначимы (вариативны), когда участники диалога склонны этими различиями пренебрегать. Практически любое имеющееся в языке формальное различие, как любил подчеркивать Д. Болинджер, может оказаться или быть сделано значимым – и одновременно, в определенных условиях, могут игнорироваться даже очень значительные различия, вплоть до различия яхты и дредноута в размышлениях капитана Врунгеля (шутка, конечно).
4. Вообще-то, принцип Лома-Врунгеля вполне тривиален и достаточно легко может быть переформулирован в терминах теории релевантности (возникшей, впрочем, почти через полвека после публикации повести Некрасова): рефлексия формы требует затраты когнитивных, а следовательно, и временных, а может быть, и некоторых других ресурсов, которые ограничены и перерасход которых потенциально делает коммуникацию невозможной, в связи с чем таковой расход контролируется прагматически (ср. [6]). Мне, однако, хотелось бы остановиться в своем докладе на трех частностях.
5.1. Прежде всего, совершенно очевидно, что принцип Лома-Врунгеля действует не только в сфере языковой коммуникации, и даже не только в семиосфере: ему подчиняется любое взаимодействие организма со средой, предполагающее игнорирование прагматически незначимых различий и формирование типичных реакций на достаточно широкий класс стимулов, границы же такового класса являются динамическими, и успешность взаимодействия со средой определяется тем, насколько удачно эти границы проводятся в каждом конкретном случае. Игнорирование важных различий приводит к немедленным опасным следствиям, но и излишняя бдительность чревата истощением аналитических ресурсов и уж как минимум затрудняет нормальное существование организма.
5.2. Проекция принципа Лома-Врунгеля на сферу языковой коммуникации позволяет рассмотреть проблематику речевого воздействия с точки зрения оговоренных в предыдущем пункте соображений и предложить типологию коммуникативных ситуаций с точки зрения рефлексии формы используемых языковых выражений их участниками, что, в свою очередь, способствует пониманию природы речевого воздействия в узком смысле[35], то есть использования особенностей языковых форм для эффективного воздействия на поведение партнера по коммуникации с целью включения его в последующую деятельность говорящего. С известными оговорками речевое воздействие в узком смысле можно отождествить с утилизацией поэтической функции языка, хотя преследуемые при этом цели далеко не всегда хочется считать поэтическими. Типология эта представлена ниже в виде простой матрицы.
|
формы |
Не имеет места |
Имеет место |
|
Не имеет места |
1. Повседневное общение. |
3. Разнообразные ситуации речевого воздействия
в узком смысле. |
|
Имеет место |
2. «Ловля на слове» (аналитика). |
4. «Словесная дуэль» с обоюдной рефлексией. |
Разумеется, как всякая типология, данная схема представляет идеальные типы. Полная рефлексия форм, равно как и полное осознание их выбора едва ли достижимы в силу как ограниченности когнитивного ресурса, так и сомнительной прагматической ценности такой полноты; ясно, что рефлектируются лишь какие-то отдельные элементы. Очевидно, однако, что как эффективность речевого воздействия в узком смысле, так и способность противостоять ему определяются способностью, во-первых, понять, к какому из квадрантов вышеприведенной матрицы относится конкретный диалог: очевидно, что основная коммуникативная предпосылка речевого воздействия – это рассогласование рефлективных установок говорящего и слушающего. Это проявляется, между прочим, еще и в том, что рефлексия формы способна не только помочь противостоять речевому воздействию, но и убить поэтический эффект – то есть то речевое воздействие, которому человек обычно бывает рад поддаться.
5.3. Второй важнейший фактор – это способность понять (в условиях ограниченности ресурсов), выбор каких форм в наибольшей степени требует рефлексии и поддается ей. Реально языковое сообщение имеет не одну, а много форм, причем не все из них соответствуют традиционному представлению о языковых формах (так обстоит дело с выбором типографских средств в письменной коммуникации, ср. [4] или выбором художественной формы). Рефлексия некоторых из них не вызывает особого труда; так, выбор стилистически маркированной, а в особенности ненормативной лексики или особо изобретательных ругательств (сопля тротуарная – оскорбление, пронявшее собеседника, с улыбкой сносившего то, что принято называть отборной матерщиной; пример Ю.П. Симонова), тогда как рефлексия лексико-синтаксического или выбора слабо различающихся лексических синонимов, как известно, требует достаточно изощренного языкового чутья – даже если не претендовать при этом на формулировку оснований для выбора «в четких понятиях», по словам В. фон Гумбольдта [7, с. 71].
6. Более детальное обсуждение разнообразия выборов представляет собой самостоятельную задачу, однако, как представляется автору после довольно длительных раздумий, изложенные в докладе соображения существенно важны для позиционирования теории речевого воздействия и определения ее оснований.
Литература
1. Паршин П.Б., Сергеев В.М. Об одном подходе к описанию средств изменения моделей мира // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 688. Тарту, 1984.
2. Баранов А.Н., Паршин П.Б. Лингвистические механизмы вариативной интерпретации действительности как средство воздействия на сознание // Роль языка в средствах массовой коммуникации. М., 1986.
3. Баранов А.Н., Паршин П.Б. Воздействующий потенциал варьирования в сфере метаграфемики // Проблемы эффективности речевой коммуникации. М., 1989.
4. Баранов А.Н., Паршин П.Б. Варианты и инварианты текстовых макроструктур (к формированию когнитивной теории дискурса) // Проблемы языкового варьирования. - М., 1990.
5. Паршин П.Б. Речевое воздействие // Электронная энциклопедия «Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru/articles/96/1009689/1009689a1.htm).
6. Шпербер Д., Уилсон Д. Релевантность // Новое в зарубежной лингвистике, вып. XXIII. М., 1988.
7. Гумбольдт, В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
Н.Н. Перцова
(Москва, Nikolay.Pertsov@avicomp.com)
Литературная критика как особый тип понимания
(на материале российской прессы начала XX в.)
Понимание – это всегда активный процесс, в котором вольно или невольно отражается личность понимающего. Однажды мною был проведен эксперимент по пониманию стандартного текста. Сотня испытуемых, студентов технического вуза, должна была письменно изложить содержание газетной заметки о пребывании в полете на околоземной орбите двух космонавтов. Результаты были поистине удивительными. Наряду с простым изложением испытуемые допускали множество вольностей, иногда дополняя исходный текст своими знаниями или воображением, иногда изменяя его содержание из-за недопонимания или неверных общих представлений. Пик фантазии был связан с тем местом заметки, где один космонавт говорит другому: «Пролетаем над Крымом». Эта фраза вызвала множество дополнений, касающихся и географического положения Крыма, и его видов, и «ласковых морских волн», омывающих побережье (подробнее см. в статье [Перцова 1977]).
Задача доклада – исследование того типа понимания, в котором круг ассоциаций и личностных вольностей является максимальным, а именно, литературной критики. Материал доклада – критические отзывы современников о творчестве Леонида Андреева, в особенности о его пьесе «Царь Голод» (первое издание – [Андреев 1908]).
В докладе рассматриваются следующие аспекты критических статей.
1. Изложение содержания произведения.
2. Нахождение его источников.
3. Определение жанра произведения или произведений, соотнесение с тем или иным общим литературным направлением.
4. Разного рода сопоставления: сравнения разных героев одного произведения или разных произведений одного автора, сравнение с творчеством того или иного отдельного писателя или той или иной литературной группы, сравнение с другой формой искусства (например, достаточно часто литературу сравнивали с живописью).
5. Оценка отдельного произведения или творчества автора в целом по разным параметром: новое – традиционное, реалистическое – символическое, тривиальное – нетривиальное и т.д.
Леонид Андреев как одна из самых ярких фигур новой русской литературы начала XX в. привлекал особое внимание читающей публики. Часто на его примере критики пытались ответить на ключевой вопрос о соотношении эстетических систем реализма и постреализма в русской литературе. Системы эти столь различны, что, как однажды заметил в частном письме Н.С. Трубецкой, доведись Пушкину прочитать Хлебникова, он, вероятно, просто не распознал бы в нем поэта. Тонкие замечания на этот счет высказал И. Анненский, сравнивая Андреева с Чеховым [Анненский 1979]:
Другая у Леонида Андреева трактовка и характеров. У него как-то все люди немного противные и нечистые какие-то. Попробуем в этом разобраться. Нет, в сущности, человека, покладистее скептика. Не правда ли, что Чехов кажется иногда удивительно круглым? Для художника-скептика, в сущности, ведь один только человек и есть на свете, а именно он. В других он только разнообразно любуется собою же, т. е. своим я, единственным, что для него несомненно. Но не таков фаталист. Для него, собственно, никакое я и в счет не идет. Есть в них, во всех, что-то другое – большое и страшное, но это – уж, наверное, не-я. Эстетически это не-я требует иллюстраций и своеобразно изменяет психологию людей, через которых действует. Оно придает жизни и отдельным людям у Леонида Андреева особый колорит и как-то их от нас отделяет: мы перестали за них бояться, их любить и даже жалеть.Люди Леонида Андреева жутко символизируются, и в сценической трактовке это кажется особенно неестественным и страшным. Но странное дело, андреевские люди нам чужды, а чеховские, наоборот, близки, – ведь это же все мы, все я.Отчего же, скажите, Маша Полозова с ее столь изящной всамделишностью кажется просто китайской тенью, если вы сравните ее с лубочной Анфисой?Не в том ли тут суть, что просто-напросто нам начинает уже надоедать вертеться в заколдованном круге я в чеховском вкусе, что мы сами больше не хотим, чтобы настроения этого я вырастали чуть что не в мировые проблемы, что нам это смешно, наконец, стало.
В многоголосице критических отзывов на пьесу «Царь Голод», глубоких или поверхностных, хвалебных или ругательных, нет только реакций на главную идею пьесы: предвидение социального взрыва и трагичности его последствий независимо от того, сытые или голодные окажутся победителями. Андреев пугал, но современникам было не страшно.
Литература
Андреев 1908 – Леонид Андреев. Царь Голод. СПб.: Шиповник, 1908.Анненский 1979 – Иннокентий Анненский. Театр Леонида Андреева // Иннокентий Анненский. “Книги отражений”. Серия “Литературные памятники”. М., "Наука", 1979. (Впервые – в газете “Голос Севера”, 1909, 6.XII, с. 3.)
Перцова 1977 – Н.Н.Перцова. Понимание естественного языка как активный процесс // ИРЯ АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 93. М., 1977. С. 39–45.
И.А. Пильщиков
(Москва, pilshch@mail.ru)
Коммуникация и понимание в концептуальной системе Баратынского
В докладе на основе анализа философской лирики Баратынского реконструируется система представлений поэта, касающихся коммуникации и понимания. Предмет рассмотрения — реализация в поэтических текстах Баратынского таких концептов, как «язык», «ответ» (языковой и неязыковой), «слово», «имя», «смысл», «понимание», которые изучаются на фоне позднеклассических и раннеромантических представлений о языке и межличностном общении. Объектом анализа становятся языковые и поэтические средства выражения этих концептов в стихах Баратынского, его современников и предшественников.
Литература
Пеньковский А. Б. Глагольное действие sub speciae adverbiorum: 2. Ответные действия и языковые ответы // Грамматические категории и единицы. Синтагматический аспект: Тезисы междунар. конф. Владимир, 1995. С. 128—133.
Пильщиков И. А. Понятия «язык», «имя» и «смысл» в концептуальной системе поэтического мира Баратынского // Wiener Slawistischer Almanach. 1992. Bd. 29. S. 5—30.
Пильщиков И. А. Отзыв у Баратынского: слово и значение // Язык. Культура. Гуманитарное знание: Научное наследие Г. О. Винокура и современность. М., 1999. С. 282—295.
Pilshchikov I. A. Notes on the Semantics of Otzyv in Baratynsky // Irish Slavonic Studies. 1994 (1996). № 15. P. 75—101.
Ю.К. Пирогова
(Москва, adv-pirogova@yandex.ru)
Дискурсивное давление и стратегии обработки
маркетинговых сообщений
В различных моделях коммуникации в качестве субъекта, осуществляющего обработку сообщений, обычно рассматривается адресат, т.е. субъект, для воздействия на которого говорящий создавал и для кого предназначал сообщение. Однако во многих сферах общения непосредственный адресат сообщения является далеко не единственным субъектом, осуществляющим когнитивную обработку сообщения. Кроме того, ролевая позиция адресата в структуре взаимодействия (акта совместной деятельности) коммуникантов также может быть различна. Учет различных субъектов, включенных в дискурс, анализ их роли в акте совместной деятельности и в коммуникативном акте, их практических и коммуникативных целей позволит выделить разнообразные стратегии обработки сообщений.
Дискурс маркетинговых коммуникаций предоставляет для исследований подобного рода интересные возможности. Под термином «маркетинговые коммуникации» понимаются разнообразные коммуникации, направленные на продвижение товара/услуги на рынке (реклама, PR-сообщения, знаки идентификации торговых марок, коммуникации в местах продаж, интерактивные коммуникации с использованием новых медиа и т.д.). Во взаимодействие в этом дискурсе вовлечены различные субъекты рынка: инициаторы коммуникации (рекламодатели, спонсоры маркетинговых сообщений), разработчики сообщений (PR-специалисты, рекламисты и другие специалисты по бренд-коммуникациям), представители масс-медиа, целевая аудитория, торговые посредники, конкуренты, представители органов регулирования и саморегулирования, исследователи и др. В качестве адресата маркетинговых коммуникаций обычно рассматриваются представители целевой аудитории. Это понятие может покрывать различные роли: инициатора покупки товара/услуги определенной категории, советчика, оказывающего влияние, принимающего решение о выборе торговой марки, покупателя, пользователя и др. Маркетинговые сообщения могут быть нацелены на одну или несколько ролевых позиций. Помимо целевой аудитории обработку сообщений осуществляют и другие субъекты рынка, выбирая соответствующую их роли и целям стратегию обработки.
Под стратегией обработки сообщения условимся понимать используемый респондентом план восприятия и понимания сообщения, основанный на выборе им фокуса внимания, типе извлекаемой из сообщения информации, а также на используемых когнитивных и временных ресурсах. Выбор стратегии обработки определяется множеством факторов, среди которых наиболее значимы: заданное адресантом содержание сообщения и иерархия выделенности в нем информации, цели респондента и его роль в акте коммуникации и, шире, в маркетинговой деятельности, фактор интереса, условия восприятия сообщения, доступные когнитивные и временные ресурсы и др.
В зависимости от роли и целей респондента в маркетинговой коммуникации можно выделить несколько основных стратегий обработки сообщений. При утилитарной стратегии маркетинговые сообщения рассматриваются респондентом как один из источников важной информации о товарах/услугах, предлагающих помощь в их выборе. Другой тип стратегии может быть назван стратегией самоидентификации потребителя. Маркетинговые сообщения нередко закрепляют в сознании потребителя образ референтной группы – условного образца, ориентируясь на который, человек формирует свои ценности, установки и модели поведения, в том числе потребительского поведения. Результатом применения данной стратегии будут суждения об образе потребителя и его модели поведения как потенциально приемлемых или неприемлемых для респондента. При использовании эстетико-гедонистической стратегии интерес для респондента представляет само сообщение (его поэтическая функция) как источник удовольствия. При использовании познавательной стратегия респондент проявляет интерес к миру товаров и типам потребления в целом, вне зависимости от своей заинтересованности в них как потребителя. Любознательность заставляет его уделять особое внимание сообщениям о технологических новинках, новых типах услуг или моделях потребления. При использовании регулятивно-оценочной стратегии респондент осмысляет содержание сообщения в аспекте его соответствия законам и этическим кодексам, действующим в сфере маркетинговых коммуникаций. Даже рядовые потребители товаров и услуг используют эту стратегию, опираясь на свои представления о нормах, которые, по их мнению, должны быть зафиксированы в законах и кодексах. При использовании негативистской стратегии респондент ищет в сообщении сведения, подтверждающие его негативное отношение к коммерческой коммуникации как коммуникации манипулятивной, неэтичной, навязчивой, примитивной по содержанию, безграмотной по исполнению и т.п. Выделение исследовательской стратегии связано с интересом к маркетинговым сообщениям представителей различных научных направлений (прикладных и теоретических). Однако не всех их целесообразно рассматривать как субъектов данного дискурса. Стратегия фоновой обработки используется респондентами при обработке сообщения в условиях, когда их внимание сосредоточено на иной деятельности (ситуация, распространенная в данном типе дискурса).
Различные стратегии обработки сообщения можно классифицировать также в зависимости от используемых респондентом когнитивных и временных ресурсов: ресурсозатратная vs. ресурсосберегающая стратегия, рациональная vs. эмоциональная обработка, систематическая vs. эвристическая обработка и др.
Важными особенностями данного дискурса, влияющими на выбор стратегии обработки информации, являются следующие. 1. Практические цели и основные интенции адресанта известны, поэтому реципиенту нет необходимости реконструировать их в процессе понимания; вместе с тем от респондентов требуются когнитивные усилия для понимания конкретных задач адресанта и осмысления содержания сообщения (сведений об объекте, составляющих его имиджа, сюжетной линии сообщения и т.д.). 2. Отдельные сообщения в данном дискурсе, как правило, являются составной частью сложного коммуникативного единства – коммуникационной кампании, причем обработка сообщений, относящихся к одной кампании, взаимосвязана. 3. В рамках кампании сообщения предъявляются адресатам неоднократно, соответственно, они имеют возможность осуществлять обработку сообщения в несколько этапов (углубляя уровень обработки, расширяя обрабатываемый материал, корректируя первоначально сформированные суждения). 4. Маркетинговые сообщения рассчитаны на функционирование в конкурентной среде. 5. Репутационный имидж маркетинговых коммуникации, особенно рекламы, в целом негативен, что сказывается на особенностях восприятия и понимания сообщений, а также на доверии к ним. 6. Маркетинговые сообщения функционируют в условиях информационного шума, затрудняющего их полноценную обработку. 7. Многие маркетинговые сообщения рассчитаны на кратковременный контакт с адресатами в условиях опосредствованной социально ориентированной коммуникации. 8. Маркетинговые сообщения функционируют в условиях строгого контроля со стороны общества и конкурентов.
Приведенный перечень особенностей, а также наличие множества взаимодействующих субъектов в данном дискурсе свидетельствуют о достаточно жесткой детерминированности как процессов вербализации, так и процессов понимания маркетинговых сообщений. Все это позволяет ввести термин «давление дискурса». Давление дискурса (в аспекте понимания) – это совокупное действие разнообразных факторов дискурса, определяющее стратегии обработки сообщения реципиентом, используемые им когнитивные и временные ресурсы, а также тип извлекаемой из сообщения информации. Автор планирует рассмотреть в докладе дискурсивное давление и различные стратегии обработки информации на примерах рекламных, PR-сообщений, а также коммуникации знаков идентификации и упаковки торговых марок.
И.А. Преснухина
(Москва, pririna80@yandex.ru)
Англоязычные культуры и проблема понимания в деловом общении
1. В широком смысле под культурой понимается совокупность результатов человеческой деятельности в разных сферах жизни: производственной, общественной, духовной. Сочетание англоязычные культуры используется как наиболее общее обозначение разнообразия культур таких стран, как Великобритания, США, Австралия, Канада и Новая Зеландия.
2. Для изучающих современный английский язык как иностранный особого внимания требуют культуры двух стран, в которых проживает 70% населения земного шара, для которого английский язык является родным (native/first language). Речь идет о Великобритании и США и соответствующих региональных вариантах – британском английском (British English/BrE) и американском английском (American English/AmE). При обучении английскому языку как иностранному, как правило, за основу принимается литературная норма одного из них – Standard British English и Standard American English.
3. Первостепенной задачей в процессе преподавания английского языка является решение проблемы понимания. Преодоление неизбежных трудностей в освоении этого сложного языка в определенной мере связано с осознанием и распознаванием общего и особенного между ведущими региональными вариантами и соответствующими культурами. Основной принцип, в соответствии с которым британский английский и американский английский вовлекаются в процесс обучения современному английскому языку, обозначается англоязычным термином “code-switching” («переключение кодов»): ориентируя студентов на общее между двумя региональными вариантами, необходимо обучать их умению выявлять типичные свойства каждого из них, перемещаясь, по мере необходимости, от британского английского к американскому английскому, от американского варианта к британскому.
4. «Переключение кодов» приобретает особое значение применительно к деловому общению на английском языке. В мире бизнеса успех дела нередко зависит от правильного восприятия и адекватной интерпретации поведения, предпочтений и приоритетов представителей той или иной англоязычной культуры. Сказанное делает необходимым последовательное выявление региональных различий в деловом общении на английском языке. Опорным звеном являются системные расхождения между британским английским и американским английским в общем языке (General English): орфография (например, BrE catalogue – AmE catalog), произношение (например, BrE commodity [kə'mƆditi] – AmE commodity [kə'mα:diti]), морфология (например, BrE speciality – AmE specialty), лексика (например, BrE canteen, shop – AmE cafeteria, store), синтаксис (BrE On Saturdays we go to London. – AmE Saturdays we go to London.).
5. Различия между двумя вариантами и, шире, культурами выявляются и в речи – многообразии ситуаций делового общения. Весьма показательна в этом отношении деловая корреспонденция (Business correspondence). Сопоставление британских и американских деловых писем дает ясное представление о различиях письменных высказываний. В британском английском имеют хождение два основных вида вступительного обращения – Dear Sir or Madam | Dear Mr Crown; американский подход к деловой переписке поощряет большую вариативность как структуры, так и знаков препинания: Gentlemen: … | Dear Corporate Section Manager: …| Dear Mr. Dolt: …| To the Human Resources Department. Заключительные формулы вежливости Yours faithfully и Yours sincerely, воспроизводимые в британских письмах, в американских письмах приобретают следующий вид: Yours truly | Very truly yours | Sincerely yours | Sincerely.
6. Национальная принадлежность пишущего может быть установлена и с учетом различий в трех частях делового письма – вступлении, основном тексте и заключении. Представители британской культуры неуклонно соблюдают общепринятые условности, прибегая к таким традиционным средствам, как клишированные сочетания: BrE Please could you send us a quotation for …| I am writing in connection with your letter of … concerning …| Further to my phone call earlier today, I should like to apologise again for …| We look forward to hearing from you.| I should like to assure you that this will not happen again. | I will be available for interview at any time, and look forward to hearing from you. Американские письма отличаются прямотой в формулировке просьб и мнений: AmE In regard to your advertisement in … , please send me …| You have every right to request the replacement of …| We are sure you understand the importance of good business relationships and wish to maintain your fine reputation. In view of that, we offer the following suggestions: replace the present copier with another. | I can make a solid contribution at Tri-State as a collector and look forward to hearing from you.
Н.В. Рабкина
(Кемерово, modesta@kemcity.ru)
Мифологические образы света и тьмы в англоязычной лирике первой Мировой войны
В данном докладе представлены результаты исследования поэтических текстов, созданных непосредственными участниками боевых действий первой Мировой войны. Пытаясь передать свои чувства провиденциальному собеседнику, поэт подсознательно прибегает к тому общему, что есть у всех – системе архетипов и мифологических образов, чье функционирование в поэзии восходит к древнейшим образчикам англосаксонской лирики. Возведенные на мифологической базе образы неизменно попадают в цель – находят отклик в сердце читателя, определяя успешность акта лирической коммуникации. Поэтому экстралингвистическая неоднозначность лирического произведения и несовпадение фоновых знаний поэта и читателя не препятствуют передаче смысловой доминанты поэтического текста.
Миф – многослойная конструкция, состоящая из находящихся в глубинах подсознания человеческой психики форм отражения восприятия и познания мира, выработанных человеком за всю историю развития общества. Миф, использованный в поэтическом произведении, обладает широким эмотивным потенциалом и обширными ассоциативными связями. Затрагивая мифологические структуры, адресант сообщения поэтического текста прибегает к мифологической коммуникации, что позволяет ему воздействовать на неосознаваемые адресатом информационные структуры. Один из способов активизации мифа в сознании реципиента – мифологический образ, который, в силу своей знаковой природы, разворачивается в целый мифологический сюжет.
Важнейший сюжет мифологии – космизация, превращение космоса в хаос, из которой вытекает сюжет борьбы героя с чудовищем. Эта схема повторяется у разных народов в разные времена и обладает принципиальной повторяемостью. М.Элиаде пишет, что «каждый герой повторял архетипическое действие, каждая война возобновляла борьбу между добром и злом» [3:135]. Основываясь на борьбе двух начал, миф оперирует семантическими оппозициями, которые соответствуют простейшим пространственно-временным отношениям: небо – земля, земля – подземный мир, день – ночь, свет – тьма. Мифологические образы тьмы и света, осознанно или неосознанно использованные в поэзии, активизируют космогонические мифы о богах и мифы о героях.
В исследуемом поэтическом пространстве потеря света означает потерю жизни, прекращение существования. В мифологическом сознании слепота соотносилась с темнотой, источником опасностей, и хаосом, противостоящим структурированному пространству космоса. Слепой человек мыслился исключенным из пространства жизни, отгороженным от нее непроходимой завесой, то есть принадлежащим к другому миру. (К примеру, архетип мудрого старика / старухи часто находит выражение в образе слепца, обладающего даром предвидения - способностью видеть то, что не видят другие). Известно также что человек, потерявший зрение, не мог занимать руководящий пост, даже если тот принадлежал ему по праву наследования, - то есть признавался «мертвым», не существующим, в одном из аспектов социальной жизни.
Специфика военных действий данного периода определила тот факт, что движение от света к темноте связано здесь с движением вниз. Из-за траншейного характера первой Мировой войны, солдатам приходилось долгое время находиться ниже уровня поверхности земли, где в часы затишья и были созданы многие исследованные нами лирические тексты. Заполненные дождевой водой воронки взрывов и окопы становились смертельными ловушками, дожди превратили землю в грязевые поля (‘killing fields’), которые, подобно трясине, затягивали людей, лошадей и военную технику [4:204]. Военная лирика изобилует лексикой с общей семой «ниже уровня земли»: cave, trench, pit, hole, grave, coal, tomb, dug-out. С этими реалиями исследуемого периода связана активизация мифологического образа темноты. Всепоглощающая тьма, в которой тонет мир людей, становится маркером ситуации разрушения концептуальной вертикали и определяет эсхатологическую направленность военной лирики: хаос не-бытия вторгается на второй уровень концептуальной вертикали – в срединный мир людей, зафиксированный в мифологическом сознании между Небесами и Преисподней. Darkness, fire, shadows, screams, fear, suffering, torture, blazes, monsters, death – общие слова и образы для тематического поля ада и тематического поля войны, использование которых активизирует концептуальное поле «конца света» у реципиента поэтического сообщения.
Темнота в сочетании с движением вниз органически находит воплощение в образе моря - символе хаоса, до-существования, коллективного бессознательного. Отсюда проистекает метафора смерти как погружения в темноту – sinking in dark, I fell into the bottomless mud and lost the light, ослепления - to rain immortal darkness on strong eyes. Индивид, остро осознавший на войне как ничтожность своего собственного существования, так и бренность всего сущего, определяет смерть через метафору моря (death’s sea), бездонного и всепоглощающего (к примеру, образ солдата, тонущего в море ядовитого газа в одном из самых известных стихотворений периода “Dulce et Decorum est”).
Происходит декосмизация – мир тонет во тьме (dark Earth, dark heavens), рушится концептуальная вертикаль. Эпизод гибели лирического героя расширяется до эсхатологического видения мира, судьба индивида осмысляется как трагедия всего земного. Такое отождествление микрокосма с макрокосмом И. Г. Матюшина определяет как типичное для всей англосаксонской поэзии, восходящее к христианскому представлению о человеке как homo ab humo, а с точки зрения истории литературы – к произведениям глубокой древности [1:15].
Хаос – не-бытие, отрицание бытия, поэтому его невозможно описать иначе, чем через отрицание, отсутствие признака (numberless, bottomless, nameless, soundless, moonless), это пространство, где невозможны тактильные ощущения (blind fingers), нет звуков, не различаются цвета. При этом, если чистый свет, свет как таковой, принадлежит высшему уровню концептуальной вертикали, а абсолютная темнота – нижнему, то цвета присущи земному бытию, миру людей, знаком «живой жизни» (life is colоur and warmth and light).
«Свет как отсутствие цвета», абсолютный свет, актуализируется в семиотическом поле военной лирики в образе яркой вспышки взрыва (silver moment), приводящей к ослеплению, темноте, и как следствие, к смерти. Вспышка света маркирует архетип порога, перехода от жизни к смерти. С ним же связана и белизна (whiteness), сияющая белизна (shining whiteness) – здесь также значим признак отсутствия цвета как атрибута жизни. Свет, ведущий к темноте, вызывает к жизни некую архетипическую замкнутость, вечный круговорот бытия и не-бытия, характерный для древнегерманской мифопоэтической модели мира. Космогенез здесь представлен как цепь превращений, исходным пунктом которых является «некое аморфное, нерасчлененное и недифференцированное целое, распадающееся в ходе эволюции на отдельные элементы, противопоставленные друг другу, но взаимодействующие, обреченные в процессе этого взаимодействия снова слиться в единое хаотическое целое, и так до бесконечности» [2:96].
Мифологические образы света и тьмы в поэзии позволяют активизировать древнейшие, вечно актуальные универсальные архетипические сюжеты космизации (создание Космоса из Хаоса) и декосмизации (архетип разрушения концептуальной вертикали). Анализ этих образов выявляет эффективность воздействия на адресата поэтического сообщения, так как они позволяют автору поэтического текста активизировать в сознании читателя те же концептуальные области, активизация которых побудила его на создание текста (например, концептуальное поле «конца света»), что определяет успешность акта поэтической коммуникации.
Литература
1. Матюшина И.Г. 2000 - Руины: становление топики в средневековой европейской лирике // Arbor Mundi: Мировое Древо. Международный журнал по теории и истории мировой культуры. – 2000. - Вып.7, - С.11-38.
2. Топорова Т.В. Об архетипе «воды» в древнегерманской космогонии // Вопросы языкознания. – 1996. - №6. - С.91-100.
3. Элиаде М. Космос и история. - М., 1987.
4. Reflections on War and Peace in the 20th Century. – University of Wisconsin-Eau Clair, 1998.
Е.Э. Разлогова
(Москва, elena.razlogova@mtu-net.ru)
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ФРЕГЕ: ЕСТЬ ЛИ ДЕНОТАТ У ПРЕДИКАТОВ?
1. В современных лингвистических исследованиях часто встречается положение о том, что у предикатов нет денотата. Оно рассматривается как нечто само собой разумеющееся, обычно дается без ссылок и не сопровождается никаким комментарием.
Понятие денотата так или иначе связывается с именем Г. Фреге, хотя в его работах для этого использовался другой термин – Bedeutung (значение) [Frege 1892а]. Относительно денотата имени принято считать, что таковым является объект материального мира, обозначенный именем, – положение, часто приписываемое Фреге. В отношении денотата предложения в лингвистике существуют как минимум две тенденции: первая – рассматривать в качестве такового описываемую предложением ситуацию (фрагмент действительности), вторая – рассматривать в качестве такового вслед за Фреге истинностное значение предложения.
Между тем, Фреге рассматривал еще один вид языковых выражений, имеющих денотат. В работе Über Begriff und Gegenstand (Понятие и вещь) [Frege 1892b], рассматривая свое употребление слова понятие, он пишет: «Понятие [Begriff] в том смысле, в котором я употребляю это слово, предикативно. Оно является денотатом [Bedeutung] грамматического предиката». Таким образом, Фреге различает не два, а три типа языковых единиц или единиц текста (имя собственное, предложение, грамматический предикат), у которых в общем случае имеется и смысл и денотат. Схематически это можно представить следующим образом:
|
Единица текста |
Смысл |
Денотат |
|
Имя собственное |
Смысл |
Вещь |
|
Предложение |
Суждение (мысль) |
Истинностное значение |
|
Грамматический предикат (имя понятия) |
Смысл |
Понятие |
Понятие обладает свойством ненасыщенности, незамкнутости (в современном понимании – валентной структурой). Вещь подпадает под понятие, образуя тем самым законченный смысл[36].
Имя собственное Фреге рассматривал скорее как грамматический субъект, указывая на то, что существительное с определенным артиклем часто является именем собственным (в определенном контексте), в то время как имя с неопределенным артиклем может быть понятием (или его частью).
Таким образом, фрегевские имя собственное и грамматический предикат вряд ли можно отождествить с частями речи, с именами и предикатами. Это скорее логико-грамматические категории, которые, тем не менее, хорошо иллюстрируются определенными лексическими классами.
Кроме канонических денотатов Фреге рассматривал и более сложные случаи, связанные, например, с косвенным смыслом и косвенным денотатом. В его концепции вещь, соответствующая имени собственному, могла не иметь ничего материального: так, выражение понятие «лошадь» для него является именем собственным и обозначает вещь. Не говоря уже о том, что истинностные значения являются абстрактными вещами.
2. В концепции Фреге текст порождает смысл, а соотнесение с действительностью является более сложным процессом: так, существуют имена без денотатов (например, Буцефал или воля народа) и предложения, в частности придаточные, которые трудно соотносимы с одним истинностным значением (они могут фигурировать дважды с разными денотатами, иметь косвенный денотат и т.п.) Соотносимость с действительностью, с материальным миром является, тем не менее, очень существенным моментом в концепции Фреге, поскольку он разрабатывал аппарат для накопления объективного знания.
В этом отношении подход Фреге существенным образом отличается от концепции Шлейермахера, где соотнесение текста со смыслом является отдельной сложной (и центральной в рамках герменевтики) задачей. Текст, для последнего, не порождает смысл, более того, у некоторых текстов смысл вообще недоступен – к нему можно только приблизиться, используя различные виды информации и прибегая к различным приемам анализа. Соотнесение с действительностью является вспомогательным элементом для обнаружения смысла.
Интересна в этом отношении теория А. Кюлиоли [Culioli 1990], где вопрос о соотнесении с действительностью вообще не ставится. Текст на естественном языке дает опорные точки [repères], которые обеспечивают доступ к его смыслу. Естественный язык сам по себе никак не соотносится с «денотативным миром»: вымысел и истина имеют один и тот же статус. Важна лишь относительная, «внутренняя» сообразность. При таком подходе художественное использование языка мало чем отличается от обычного.
У Фреге же «для знаков, которые должны быть наделены только смыслом, желательно иметь особое название, например изображения [Bilder]; тогда слова, произносимые актером на сцене, будут изображениями; более того, и сам актер будет изображением».
Литература
Culioli A. Pour une linguistique de l’énonciation. Paris: Ophrys, 1990.
Frege G. Über Sinn und Bedeutung // Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. N°100, 1892а. Русск. переводы: Смысл и денотат // Семиотика и информатика. Вып. 8. М.: 1977; О смысле и значении. В кн.: Г. Фреге. Логика и логическая семантика. М.: 2000.
Frege G. Über Begriff und Gegenstand // Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, XVI, 1892b. Русск. переводы: Понятие и вещь // Семиотика и информатика. Вып. 10. М.: 1978; О понятии и предмете. В кн.: Г. Фреге. Логика и логическая семантика. М.: 2000.
В.П. Руднев
(Москва, vprudnev@mail.ru)
Общение телами в романе Андрея Платонова «Чевенгур»
Шизофреник – это ребенок в матке. Ему хочется жить жизнью эмбриона. Александр Лоуэн.
Мы попытаемся показать, что роман «Чевенгур» (Ч) представляет собой шизофренический дискурс. В Ч актуализируется тема взаимного соединения, прорастания друга в друга двух тел: «Наставник вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму: это просто теснота внутри его матери, и он снова всовывается меж ее расставленных костей, но не может пролезть от своего слишком большого старого роста» (А. Платонов. Чевенгур. М., 1991, с. 68.) Здесь иллюстрируется идея основателя телесно-ориентированной психотерапии Лоуэна, что шизофреник стремится обратно в утробу матери. Вообще секс в «Чевенгуре» это чаще всего символический инцест, так как почти каждая женщина в «Чевенгуре» это материализованное воспоминание об умершей матери. Впрочем, Фрейд считал, что это имеет место для всех людей. Так Сербинов соединятся со своей возлюбленной, Софьей Александровной на могиле матери. Секс в «Чевенгуре» это чаще всего символический инцест, так как почти каждая женщина в «Чевенгуре» это материализованное воспоминание об умершей матери. Секс осознается платоновской женщиной как мучение: «Ей Прокофий обещал в дороге супружество, но она, как и ее подруги, мало знала, что это такое, она лишь догадывалась, что ее тело будет мучить один человек вместо многих» (с. 378-379).
Зачатие рассматривается тоже как нечто мучительное и тягостное: «…родители зачали их не избытком тела, а совею ночною тоской и слабостью грустных сил, - это было взаимное забвение двоих спрятавшихся тайно живущих на свете людей» (с. 281). Характерно, что в этом же абзаце говорится о «навеки утраченной теплоте матери» как результате рождения ребенка.
В сущности, герои Платонова несмотря на их тягу к срастанию тел и душ, несмотря на весь их чевенгурский коммунизм, - люди чрезвычайно одинокие. Это относится не только к Дванову, но и к его alter ego Сербинову, и даже к Чепурному и Копенкину.
В связи с этим может и в каком-то смысле даже должен быть поставлен вопрос о нарциссизме как одной из составляющих характера героев «Чевенгура». Не забудем, что с психоаналитической точки зрения шизофрения - это регрессия к нарциссизму. В романе чрезвычайно часто встречаются такие понятия, как «скучать» и «скучный», «пустота» «холод» (наряду с теплом,) «одиночество» и «одинокий», «стыд» и «стыдно».
Это все слова, ключевые для нарциссического расстройства личности, как оно понимается основоположником современных психоаналитических исследований нарциссизма Хайнцем Кохутом. Как же все-таки понять эту фигуру симбиотичности в «Чевенгуре»? Здесь нам, возможно, поможет понятие «ризомы», которые ввели в философский оборот Жиль Делёз и Феликс Гватари: Под ризомой в ботанике понимают корневую систему растений, например, клубень, корни и т. п. как независимую структуру жизнедеятельности, достаточно автономную, со своим развитием и принципом формирования. <…> Излюбленная модель Делёза и Гватари – ризоматическое функционирование экосистемы «оса – орхидея». Жизненная структура осы отлична от подобной у орхидеи (хотя бы уже потому что оса – насекомое, а орхидея – растение). Между тем, оса, перенося цветочную пыльцу, выступает для орхидеи в качестве органа возобновления жизни; воздействие осы на орхидею является, если использовать термин авторов, детерриториализующим, поскольку в одном случае орхидея принадлежит жизненному циклу осы (питание), но в другом – оса выступает в качестве органа оплодотворения орхидеи и в свою очередь детерриториализируется, иначе говоря, функционирует как важный элемент жизненной структуры орхидеи. <…> Ризома есть активность паразитарных преобразований в отдельно взятой экосистеме, т. е. она сама по себе не существует, ее активность усиливается только в случае преобразования одной жизненной экосистемы в другую или просто-напросто в ее разрушении и гибели (Валерий Подорога. Феноменология тела. М., 1993, с 79-81).
Вот типично ризоматический фрагмент в Ч: «После Прокофия Кирей приник к Груше пониже горла и понюхал оттуда хранящуюся жизнь и слабый запах глубокого тепла. В любое время желания счастья Кирей мог и Грушино тепло, и ее скопившееся тело получить внутрь своего туловища и почувствовать затем покой смысла жизни. Кто иной подарил бы ему то, чего не жалела Груша, и что мог пожалеть для нее Кирей? Наоборот, его всегда теперь мучила совестливая забота о том, что он недодает Груше пищи и задерживает ее экипировку платьем. Себя Кирей уже не считал дорогим человеком, потому что самые скрытые и нежные части его тела перешли внутрь Груши (с. 389).
Половой контакт прорисовывается Платоновым как «слабый запах глубокого тепла», слабый, потому что слабость тела платоновских героев, его неукорененность, получает «нехватку в Другом» (Лакан), только посредством близкого соседства другого тела, тела Другого (или, как говорит Платанов применительно к Кирею, - туловища, отстраняя, «охлаждая» таким образом само понятие тела), как взаимное ризоматическое прорастание тел, обретение «слабого тепла» и «покоя смысла жизни». Покой как разрядка сексуального напряжения у обычного человека для платоновских героев становится «покоем смысла жизни». Шизофреник ищет в сексуальном контакте именно того трансгредиентного, внеположного языку смысла, который он не может получить в других постсемиотических практиках: религиозных или психоделических.
Лоуэн пишет о своем пациенте-шизофренике: «Питер рассказывал, что сексуальный контакт с его девушкой был единственным теплом, которое он пережил, и что и жизнь без этого не имеет смысла. По-видимому, потребность в телесном контакте была столь сильна, что перекрывала всякие рациональные соображения. Без этого контакта он чувствовал, такую пустоту…» (мной курсивом выделены платоновские ключевые понятии: тепло, смысл, телесность и пустота. – В. Р.) Адександр Лоуэн. Предательство тела. Екатеринбург, 1999,с. 34).
Сексуальный контакт шизофреника это некоторый немой разговор проросших друг в друга совершено по-особому, ризоматически антиструктурированных тел. Для шизоида половой акт символичен, он этим доказывает себе, что он существует и что-то значит. Для шизофреника половой акт это нечто вроде разговора по душам, ведь шизофреники (во всяком случае, в остром состоянии) лишены способности разговаривать нормальным человеческим языком с нормальными людьми, в этом трагедия их постсемиотической трансгрессивности. Взаимное прорастание от одиночества в поисках покоя смысла жизни, отсутствие прямых линий, отсутствие структуры, шизоидной жесткости.
С.Ю. Семенова
(Москва, nsomin@ipiran.ru)
О файле памяти
Понятие коммуникации многогранно; здесь речь идет об особом ее аспекте, как принято говорить в лингвистике, периферийном – об общении человека со своим прошлым, когда инструментом общения служит память.
Для автора, после потери мамы, память стала прибежищем, средой обитания, руководством к повседневным поступкам, пространством поиска какой-то новой путеводной нити. Возникла потребность помочь памяти – сделать так, чтобы ушедшее стало некой реальностью – теперь уже всего лишь виртуальной. Воплотить былую жизнь в текст и в электронную форму. Ведь электронный текст, в принципе, обладает способностью к особой жизни, жизни в больших информационных пространствах.
Появились компьютерные записки о жизни семьи, по годам, а иногда, в особо памятных ситуациях, даже по дням. Прошедшее разворачивается с неожиданной мерой подробности, и каждый штрих, совершенно не замечавшийся, когда ВСЕ были живы, теперь кажется значимым, он несет в себе саму фактуру ушедшего мира. Задумана и ведется хроника семьи с 1978 года – года смерти бабушки, маминой мамы, и до марта 2004 года – до последнего маминого мига. ("Вторая половина жизни, Как короток к ночи твой путь…"). Хотелось бы, чтобы этот труд стал как можно более глубоким осмыслением конкретной человеческой судьбы, конкретной человеческой личности – и притом в неизбежном контексте исторической российской действительности, слома эпох ("Времена не выбирают,
В них живут и умирают"). Представляется, что мамин опыт в человеческих отношениях, в преодолении болезней, приобретенный весьма дорогой ценой, мог бы быть полезен ныне живущим.
Пришло осознание безвозвратной гибели языка ушедшего человека и всего целостного языка семьи (так сказать, идиолекта семьи). Появилась тяга запечатлеть по памяти отзвучавшую речь. Возник список (компьютерный файл) семейных высказываний. Этот файл, фактически словарь ушедшей жизни, стал активно вестись в 2006 году – через два года после трагического события (первые месяцы был "ступор" на слова). Сейчас в файле более 4,5 тысяч записей. Есть некоторое количество повторов; повторы не уничтожаются, они служат косвенным доказательством достоверности текста. Есть повторы фраз с измененным порядком слов – некоторые высказывания звучали в семье не однажды, и синтаксис мог немного варьироваться. Записи не сортируются по алфавиту, идут в порядке вспоминания; файл стал протоколом потока памяти.
Вначале было желание запечатлеть только сладостные игровые моменты – домашние каламбуры, прозвища, междометия, обороты речи, нарочитые фонетические искажения. Затем файл стал пополняться серьезными характерными репликами и суждениями, произнесенными в далеко не игровой обстановке. В файл внесен и некоторый общий языковой материал, звучавший в семье (реально цитированные пословицы, стихотворные и песенные строчки, крылатые выражения, типа "температура, средняя по больнице"). Сейчас в файл заносится всё то высказанное, для чего у автора в памяти есть звуковой образ – в голосах, в интонациях, и зрительный образ ситуаций говорения.
Если собранное пытаться делить по жанрам, то из предельно серьезных высказываний можно назвать мамины
- ЗАВЕТЫ, их как раз мало, к сожалению: "Я, конечно, ещё поживу, но если вдруг ЧТО, ты должна понимать, что я всё-таки очень больна…",
- комментарии по поводу неизбежного: "Чем ближе, тем страшней…", "Бойся - не бойся, а… естественный процесс…", "Уходят старики…", "Поверх земли никто не останется", "Как я завидую молодым, им жить!",
- медицинское: "Ты как? – Голова закружилась…", "Ты как? – Сегодня буря! [геомагнитная]", "В глазах темно…",
- социальное: "Как мы ещё живы?!", "Мы – песчинки в этом мире!".
Из печально-повседневного
- комментарии: "Садик наш на самообслуживании", "Кормлю-кормлю, и не в коня корм, вы только худеете", "Живем, как на погранзаставе!", "Полное отсутствие всякого присутствия!", "Я опытная больная!",
- без вины покаяния: "Я себя преступником чувствую, ты работаешь, а я отдыхаю…",
- упреки: "Всё отвлекаешься, когда же будешь привлекаться?!",
- указания: "Всё только с утра надо делать! Потом уже нет сил!", "Смотрите, не голодайте!",
- опасения: "Вот так какая эвакуация, мы не справимся!,"
- утешения: "Все люди болеют - и поправляются!".
Из полушутливого
- экспромтные бытовые номинации: "ложка вареньевая", "храм "Дворец Советов", "черника-форте, черника-пьяно",
- наставления: "Старайся всё делать хорошо, а плохо само получится!",
- признания: "Я, грешница, люблю конфетки!",
- реплики автора, говоренные в невозвратном душевном комфорте: "И в кого я в тебя такой влюбленный?!",
- колоритные реплики знакомых: "Дибазол вцепляется в хвост вирусу", "Симфония [по радио]? Выключай!", "Как живешь, Костя? – Лучше Ленина, лучше Сталина! – Чем же лучше, Костя? – Так я же живой!".
Собираются в файл и высказывания маминых родителей, трепетно цитировавшиеся ею. Любимые пословицы бабушки, речевые обороты, городской фольклор Москвы середины века, фольклор войны: "Граждане, не стойте у порога, Граждане, воздушная тревога!". Связь поколений…
Для оставшихся членов семьи файл действительно стал виртуальной реальностью, средой погружения; высказывания кажутся не читаемыми, а звучащими. Происходит переосмысление ушедшей жизни, масштабнее и глубже видится ушедшая личность. Раскрывается многое недосказанное, оставленное на несбывшееся "потом". Видится мера познанных страданий, мужество и уникальный личностный свет.
Несмотря на драматизм судьбы, львиная часть собранного оказалась всё же шутливой, игровой. В душевном уюте обыгрывалось многое; неистощимая языковая игра видится сейчас одним из доказательств семейного счастья. Попытка воссоздать языковой портрет подаренного мамой счастья есть на сайте Диалога'2006; здесь поэтому уместно упомянуть лишь некоторые штрихи. Например, комично "пристегивались" к домашним ситуациям идеологические клише разных прожитых эпох: "ЧеКа не дремлет", "Подпольный обком действует", "Бурные, продолжительные аплодисменты", "техническое творчество масс", "Зато демократия!". Блаженством были фонетические игры, с утрированием интонации: "В такую пого-о-оду хороший хозя-а-а-аин…", с искажением и утрированием звуков: "квасный" [красный], "сЬвИжи мне…" [свяжи], "живем, как в ЕвропЭ!", с имитацией северного говора "кОбак" [кабачок], с пародированием словообразовательных элементов других языков: "Что твори-дзе!", "Что твори-Цзе-Дун!", "плюшкявичус" [плюшка]. Другие комические номинации: "колбаса из полихлорвинила", "молоко козлиное". Возвращения от переносного к буквальному: консервный ключ "буксует, как школьная реформа", сапоги "подмокли, как репутация". Звуковые подражания: "дряники" (невкусные пряники), "Скандализа Райс" (про одну знакомую), "суп-ботвинник - Михал Моисеич", цитирование классиков: "Здесь такой сквозник-дмухановский, тебя продует!". И так далее. Подробное описание отзвучавшего комического могло бы стать отдельной темой. А мир внутрисемейных слов должен остаться за кадром.
Тогда, синхронно Жизни, автор в привычке к лингвистическим упражнениям иногда задавал себе вопрос, а какова общая семантика семейной языковой игры и какова её иллокутивная функция. Сознание уклонялось от внятного ответа. Ответ пришел ПОСЛЕ. Главным образом, языковая игра была подсознательным средством притормозить "естественный процесс". ВСЕ были живы, и языковая игра была гимном этому положению вещей.
М.А. Сивенкова
(Минск, maria.sivenkova@tut.by)
«ПОЙМИТЕ МЕНЯ ПРАВИЛЬНО», «I just want to be clear»:
МЕТАКОММУНИКАТИВНЫЕ ХОДЫ ПОНИМАНИЯ В ДИАЛОГЕ (на материале русского и английского языков)
Полное понимание между говорящим и слушающим в диалоге – идеал, к которому в норме стремятся коммуниканты, а степень понимания – один из важнейших показателей успешности общения, нуждающийся в постоянном контроле со стороны собеседников. В этой связи закономерна востребованность в диалоге обширного пласта метакоммуникативных ходов, в которых эксплицируется идея (не)понимания, направленных на заблаговременное обеспечение понимания, его проверку в ходе диалога, демонстрацию понимания и призывы к нему, устранение возникшего непонимания и т.д. Ср.:
– Да я уж сто раз говорила! Но он не хочет понять... И что мне прикажете делать?
– Лиза, я все понимаю, но не принимайте от него цветы, не вступайте с ним в разговоры... Он, как безумно влюбленный, каждое, даже равнодушное, слово толкует в свою пользу... Я вас ни в чем не виню... поймите меня правильно, но посудите сами – разве матери может понравиться подобный роман?
– Нет никакого романа! Нет, понимаете? И не будет! (Е.Вильмонт. Проверим на вшивость господина адвоката).
Разнообразие таких метакоммуникативных ходов, отражающее объективные сложности, которые собеседникам приходится преодолевать в межличностном общении, позволяет выявить ряд параметров для их классификации, к наиболее хорошо изученным среди которых, по-видимому, следует отнести объект (не)понимания (так, в лингвистической литературе предлагаются типологии коммуникативных неудач разной степени детализации, в которых учитываются всевозможные языковые и речевые источники непонимания в диалоге – см., например, [1; 2]). Возможен также анализ исследуемых метакоммуникативных ходов с точки зрения их речеактовой структуры, коммуникативных стратегий, реализуемых с их помощью, направленности таких ходов в диалоге, участника речевого взаимодействия, инициирующего метакоммуникативный ход понимания и др. В данной работе мы сосредоточимся на некоторых межкультурных различиях, выявляемых при анализе англоязычных и русскоязычных призывов к пониманию. Ср.:
Кудимов. Я очень сожалею, но мне действительно пора.
Нина. Нет, ты останешься.
Кудимов. Пойми меня правильно. У тебя каприз, а я дал себе слово...
(А.Вампилов. Старший сын);
“Let’s understand each other,” she said. “I’m not this much of a pushover. I don’t go for hall bedroom romance. <…>.”
“Will you have a drink before you go?” (R.Chandler. Farewell, My Lovely).
Как показал анализ фактического материала[37], англоязычные призывы к пониманию являются менее частотной разновидностью метакоммуникативных ходов понимания в сравнении с их русскоязычными коррелятами. Так, исследуемые англоязычные ходы составляют лишь 6% всего корпуса англоязычных контекстов понимания, тогда как соответствующие русскоязычные – 15 %.
Кроме того, на нашем материале, в русскоязычной и англоязычной речевой культурах предпочтение отдается разным подтипам призывов к пониманию. Так, основная часть (90%) исследуемых русскоязычных метакоммуникативных ходов представлена императивными конструкциями вида Пойми(те) меня (правильно), в которых ответственность за процесс понимания полностью возлагается на адресата и не содержится попыток смягчения исследуемого хода. В то же время соответствующие англоязычные корреляты You must (try to) understand…, Understand (me), Don't misunderstand me, etc. зачастую (30% примеров) содержат попытки смягчения импозитивного воздействия на адресата (Please try to understand, I think you must understand that…, I hope you understand that…, You'd better understand one thing, etc.), составляя лишь половину нашей выборки англоязычных призывов к пониманию. При этом другая половина англоязычного корпуса представлена призывами к пониманию, в которых говорящий берет на себя ответственность за обеспечение понимания со стороны слушающего (I just want to be clear, I want to make it clear, I may as well make it clear, I want everybody to be clear, To be clear, I must ask you to understand clearly that…, I want to be sure you understand that, I want one thing clear…, I'd like to clear up one or two little matters with you, Let me make one thing clear, etc.), а также призывами, в которых говорящий и слушающий разделяют ответственность за процесс понимания (We'd better understand each other, Just so we understand each other, Let’s understand each other, Let us be clear, Let's make/get one thing clear, We may as well clear up a few things, etc.). Из анализа приведенных примеров видно, что соответствующие англоязычные реплики демонстрируют бóльшее разнообразие и меньшую степень клишированности по сравнению с их русскоязычными коррелятами.
Обращает на себя внимание также относительно высокая частотность модальных глаголов со значением долженствования must, have to, востребованных в 20% англоязычных призывов к пониманию (You must understand, You have to understand that…) на фоне единичных примеров такого типа в русскоязычной выборке (Вы должны меня понять). При этом, как показывает анализ соответствующих коммуникативных контекстов на английском языке, понимание ситуаций, в которых говорящий применяет такой модальный глагол, зачастую является важным для адресата (что объясняет, на наш взгляд, относительно автономный статус таких призывов к пониманию в отличие от русскоязычных реплик типа Пойми(те) меня, которые зачастую встраиваются в высказывание на правах десемантизированного усилителя его иллокутивной силы, ср., например, Да пойми ты меня, разве можно все принимать так близко к сердцу! = Я тебя очень прошу не принимать все так близко к сердцу). Ср.:
“You must understand,” Connor said, “there is a shadow world — here in Los Angeles, in Honolulu, in New York. Most of the time you're never aware of it. We live in our regular American world, walking on our American streets, and we never notice that right alongside our world is a second world <…>.” (M.Crichton. Rising Sun);
В то же время во многих исследуемых русскоязычных диалогических контекстах реплики − призывы к пониманию представляют собой один из вариантов вспомогательных ходов, реализуемых говорящим в рамках стратегии убеждения адресата в собственной правоте наряду с призывами к доверию, мотивировкой собственной точки зрения и другими усилительными ходами. Ср.:
«Поверь мне, ничего слаще в жизни нет, и чтобы это испытать, стоит и жить и есть... Вообще, пойми, дурья башка, в жизни много радостей и без осиной талии. А у тебя она будет, говорю тебе, только надо выздороветь, ты больна» (Е.Вильмонт. Нашла себе блондина!).
Таким образом, выявленные межкультурные различия касаются частотности исследуемых ходов, особенностей их поверхностной структуры, а также востребованности той или иной разновидности призыва к пониманию в русскоязычном и англоязычном корпусах диалогических контекстов понимания. На наш взгляд, данные различия свидетельствуют о специфике отношения носителей русскоязычной и англоязычной речевой культур к исследуемым речевым действиям: если первые относительно легко и экономно призывают слушающего к пониманию, перекладывая бремя ответственности за его достижение на адресата, то вторые «резервируют» такие коммуникативные ходы для более значимых ситуаций, интерпретируя понимание как совместную деятельность говорящего и слушающего.
Литература
1. Ермакова О.Н. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога) / О.Н. Ермакова, Е.А. Земская // Русский язык и его функционирование: Коммуникативно-прагматический аспект: Сб. ст. – М.: Наука, 1993. – С. 30–65.
2. Городецкий Б.Ю. К типологии коммуникативных неудач / Б.Ю.Городецкий, И.М.Кобозева, И.Г.Сабурова // Диалоговое взаимодействие и представление знаний: Сб.ст. – Новосибирск, 1985. – С. 64–78.
М.В. Смелова
(Тверь, smelova_m@rambler.ru)
Миф и идеология рекламы
Изучение рекламы в ее существенной функциональности целостного мировоззрения в определениях мифа – данная позиция, приводимая здесь как один из примеров применения понятия мифа к наличной действительности, представляется достаточно обоснованной в ставших уже «классическими» текстах (Ролан Барт, Жан Бодрийяр).
Мифология – это совокупность коннотативных означаемых, обращенных к доверчивому сознанию или подсознанию реципиентов, т. е. она образует латентный идеологический уровень дискурса. Но все, что навязывается человеку силой, вбивается ему в голову или внедряется в обход сознания, отчуждено от субъекта и является проявлением деятельности властных структур.
Р. Барт[38] отмечает следующие моменты функционирования мифологии, которая с помощью коннотаций «присасывается» к первичным смыслам и питает ими свое паразитарное существование. Во-первых, мифология стремится создать такой образ реальности, который совпадал бы с желаниями, целями, ожиданиями носителей мифологического сознания. Одновременно мифология озабочена тем, чтобы скрыть свою паразитарность, более того – даже свою историчность, и требует, чтобы ее воспринимали не как одну из возможных точек зрения на мир, а как единственно верную, истинную, как нечто естественное, натуральное, «природное». Мифология стремится выглядеть не «продуктом культуры», а явлением природы, она натурализует свои культурные значения. Мифология, или идеология прикрепляется не только к словам, но и к вещам. Так, например, определенная одежда, прямая цель которой – защищать от холода, может выглядеть вызывающе, и ее вторичное значение – эпатирование окружающих – заслоняет собой первичное – функциональное. В конечном счете, по мысли Р.Барта, у мифологии много означающих (коннотаторов), но одно означаемое – сама идеология, к которой ведут и звуковые и письменные высказывания, и формы поведения, и изображения и т.д.
Феномену рекламы, рассматриваемому в его целостности как сложный комплекс экономических, культурных и психологических принципов организации социального общения, в постиндустриальном обществе выпала важная роль – роль симуляции единства. Как подчеркивает Жан Бодрияр, принцип рекламного сообщения – это внушение заботы общества об индивиде, присутствие «скрытых мотивов защищенности и дара, той заботы, с которой «другие» его убеждают и уговаривают», которые, в конечном счете, фиксируются в социальной инстанции, прямо отсылающей к образу матери. Существенным становится не качество предлагаемого товара, а его имидж, место, которое он занимает в сознании единичного потребителя и массовом потреблении (оба показателя коррелятивны). «В рекламе именуемый и описываемый товар - десигнант становится алиби, и под прикрытием его наглядной очевидности осуществляется невидимая операция интеграции»[39].
Мирча Элиаде пишет о выявлении мифических структур образов и поведения, которыми пользуются в своем воздействии СМИ. Персонажи рекламных роликов или комиксов являются современной версией мифологических или фольклорных героев. Рекламный ролик, разыгрывающий в сокращенном виде сюжет полицейского романа, раскрывает перед нами борьбу между добром и злом, между героем и преступником (современное воплощение демона). Подчас мифологическое поведение, говорит Элиаде, оживает на наших глазах. Речь идет не о пережитках первобытного менталитета. Некоторые аспекты и функции мифологического мышления образуют важную часть человеческого существа. С помощью масс-медиа происходит мифологизация личностей, их превращение в образ, служащий примером. Мифологическое поведение раскрывается в культе успеха, выражающем желание выйти за пределы человеческих возможностей.
Элементарным условием эффективного действия мифов является их принятие группой как особого вида истины, соответствующей коллективным надеждам и страхам. Из мифологических историй убираются элементы, противоречащие современным эмоциональным ожиданиям. Мифологическая традиция превращается в обычаи, а последние – в нормативную систему. В системе же многочисленные пробелы заполняются иррациональными измышлениями, идеологизируются, в марксистском понимании идеологии. У раннего Ролана Барта буржуазная идеология неразрывно связана с мифом. Она пропитывает собой всю социальную действительность, не оставляя ни одной щелки, которая давала бы доступ к настоящей действительности. Эта анонимная и аморфная масса расхожих слов и представлений (в книге «Удовольствие от текста» обозначенная словом «докса») представляет собой первичный и неистощимый источник мифов. В своей универсальности она встает между человеком и миром, между сознанием и реальностью. Идеология говорит ложным языком, представляя собой ложное отношение к миру.
Всякий идеологический знак определяется кругозором данной эпохи и данной социальной группы. Мы опознаем идеологию, когда она, социализируясь, превращается в код. Так устанавливается связь между миром кодов и миром предзнания (если угодно, пред-мнения, суеверия и проч.) Идеология формирует предпосылки для риторики, и знания приобретают стилизованную, всеми узнаваемую форму. Тяготение современных мифов к малым жанрам демонстрирует идеологические задачи: универсализм, отказ от объяснения, незыблемость мировой иерархии. Получается, что конечная цель всех так называемых «буржуазных» мифов — сделать мир неподвижным; миф должен внушать и изображать такой мировой (экономический) порядок, где раз и навсегда установлена иерархия владений, где должна создаваться иллюзия постоянства наших мнений.
Т.С. Троицкая
(Москва, ts.personal@gmail.com)
Понимание в обучении (анализ некоторых результатов исследования грамотности чтения девятиклассников)
Как известно, общеучебные достижения выпускников 9-х классов, которые продемонстрировали российские школьники в рамках международного исследования функциональной грамотности чтения PISA (Programme for International Student Assessment, 2000, 2003), оказались одними из самых низких в мире. Такой результат был получен и по другим направлениям исследования (математическая и естественно-научная грамотность).
Работа в проекте, посвященном анализу этой неудачи российских школьников, а также разработке и апробации инструментария, пригодного для выявления уровня общеучебных достижений в российских условиях (направление грамотность чтения) позволила обнаружить ряд преград, стоящих на пути понимания разных типов текста (учебные, научно-популярные, рекламные, публицистические, художественные) выпускниками 9-х классов российских школ.
В докладе предполагается рассмотреть преграды на пути понимания текста, наиболее характерные для сегодняшних учащихся.
Так оказывается, что для многих подростков доступ к тексту, процесс его понимания просто-напросто блокирован исходными представлениями, установкой на узнавание очевидного, уже известного (а не на понимание, обнаружение нового, неизвестного). В процессе апробации были выявлены парадоксальные случаи массового пренебрежения реальностью текста, не укладывающейся в расхожие представления школьников. Оказывается, подросткам бывает проще как бы сломать текст, подогнав его под свои представления, чем изменить свои представления и открыть глаза на реальность текста, противоречащую расхожим стереотипам. Возможно, причину этого явления следует искать в непривычке школьников работать в гипотетической (вероятностной) модальности, в характерном для современной школы приоритете знания над пониманием. Замечу, что такого рода блокирование стереотипом был выявлен нами и на более ранних этапах обучения – например, у младших школьников.
Другая преграда, нередко встающая на пути понимания – это излишне прямолинейное и, можно сказать, формальное восприятие многослойной информации. Подростки склонны считывать основную, открыто заявленную информацию (подчас попросту расположенную на первом месте и на первый взгляд достаточную) и пренебрегать информацией, расположенной не на первых позициях. Приведу лишь один пример.
Текст, использованный в одной из задач[40], представлял собой рекламный проспект, посвященный новейшей модели духового шкафа. В частности, там говорилось, что «температурный режим, который можно установить в духовке, колеблется от 50 до 300 градусов с шагом изменения температуры всего 5 градусов». Требовалось отметить (было предложено 5 вариантов – 10, 165, 234, 250 и 325 градусов), какую температуру можно установить в духовке. Казалось бы, ответ очевиден и не составляет никакой проблемы для 9-классников. Тем не менее большая часть подростков (подчеркну: это были учащиеся школ разного типа и разных регионов) отвечает неверно; ошибка заключается в неучете «шага изменения температуры» (отмечают 165, 234 и 325 градусов). Можно, конечно, предположить, что ошибка связана с непониманием специального значения слова «шаг», но это значение легко устанавливается по контексту. Поэтому более вероятным объяснением массовой ошибки представляется следующее: школьники удовлетворяются основной информацией (в данном случае это диапазон возможных температур) и пренебрегают дополнительной; в данном случае этому способствует и цифровое (более заметное на фоне буквенного текста) обозначение основной информации (диапазона).
В докладе предполагается рассмотреть и другие случаи блокировки понимания, выявленные в процессе реализации проекта. Здесь же необходимо остановиться на причинах, ведущих к угнетению процесса понимания в обучении.
Дело в том, что в практике обучения, утвердившейся в массовой школе, неразрывно слиты два противонаправленных процесса: я имею в виду процессы понимания (или смыслопорождения) и текстопорождения.
Действительно, с одной стороны, школьники должны понять, осмыслить учебный материал, с другой – им необходимо просигнализировать о своем понимании. В ситуации открытого вопроса[41] информация о понимании (а также непонимании, псевдопонимании, частичном понимании) передается с помощью некоего текста, создаваемого школьником. При этом «сбой» может произойти как на стадии понимания (в границах внутренней речи), так и на стадии порождения текста (ответа). Учитель в этом случае получает от ученика сложно устроенный продукт, который может содержать как ошибки понимания, так и ошибки текстопорождения – причем «расслоить» этот продукт и определить характер ошибки оказывается не всегда просто, а иногда и невозможно (речь идет здесь в первую очередь о предметах гуманитарного типа: в точных науках тексты, в том числе и ученические, более формализованы и потому более жестко манифестируют характер понимания).
Заметим, что в ситуации открытого вопроса внимание как учащихся, так и учителей по преимуществу концентрируется на процессе текстопорождения; процесс понимания, мыслимый как само собой разумеющийся, выпадает из поля зрения педагогов и «заслоняется» впечатлением от предъявляемого учеником текста. Успешными оказываются дети, способные строить развернутые тексты – как устные, так и письменные; «понимающие» же, но немногословные или говорящие кратко, невыразительно, невнятно дети оказываются неудачниками и редко заслуживают одобрения учителя.
Часто школьники получают от педагогов установки, прямо ориентирующие их на характер (и даже объем) порождаемого текста. Подобные рекомендации («отвечай полным ответом», «сочинение должно быть не менее трех страниц» и др.) широко практикуются в школьном обучении. Совершенно очевидно, что такие установки не только наносят вред процессу понимания, но и способствуют формированию негативных личностных качеств – таких, как пустословие, спекуляция способностью к разглагольствованию, и в перспективе – лицемерие и угодливость.
Мы видим, что российской школе (по крайней мере это безусловно для предметов гуманитарного цикла) сложилась ситуация дисбаланса между вниманием методистов и учителей-практиков к процессу текстопорождения учащихся, с одной стороны, и к процессу понимания, с другой: понимание явно «заслонено» высоким статусом текстопорождения. Это видно хотя бы по тому, какое время отводится в школе для так называемого развития речи (читай: текстопорождения); в начальной школе это едва ли не приоритетное направление в сфере гуманитарного образования учащихся. Между тем развитие речи, игнорирующее всю серьезность и сложность процесса понимания, оказывается пустышкой, фарсом, пустословием. Развитие речи учащихся в этой ситуации не может не сводиться к усвоению набора речевых штампов и формированию навыка по манипулированию ими. Думаю, каждому педагогу-словеснику приходилось наблюдать (испытывая при этом не то отчаяние, не то бессилие), как вполне успешный школьник, ненадолго задумавшись над поставленным к тексту вопросом, с легкостью «достает» из расхожего запаса готовый безликий и безличностный штамп, грубо игнорирующий как индивидуальность текста, так и логику поставленного вопроса…
«Процесс текстопорождения… является претворением недискурсивной внутренней речи автора в дискурсивные формы языка», – пишет В.И. Тюпа[42]. В этих словах четко выразилась безусловная взаимозависимость процессов понимания и выражения этого понимания в слове. Подчеркнем лишь абсурдность усилий претворения в дискурсивные формы языка несостоявшейся или поверхностной, ложной недискурсивной внутренней речи автора (в нашем случае ученика, ребенка). Ясно, что без специального и пристального внимания к процессам, протекающим в сфере внутренней речи учащихся, работа над совершенствованием способов экстериоризации «черного ящика» (детского понимания) является пустым формализмом.
Один из путей преодоления отмеченного дисбаланса и возможный способ «расслоения» процессов понимания и текстопорождения видится в обращении к вопросам закрытого типа (с возможным обоснованием своего выбора) не только с целью контроля, мониторинга и др., но и непосредственно в целях обучения.
Ю.Л. Троицкий
(Москва, sunson@pt.comcor.ru)
«Контекст понимания» как условие учебной коммуникации
Контекст понимания – из словосочетания может стать продуктивным термином, если представить учебную коммуникацию как взаимодействие субъектов с материалом учебного предмета, понятого не в качестве набора определенных значений, но как учебное произведение, инициирующее смыслополагание.
Традиционное обучение рассматривает образовательную коммуникацию как канал передачи готовых предметных значений. Отсюда следует господство ЗУНовской системы и то, что принято называть «Школой памяти».
Концепция Школы понимания (коммуникативной дидактики), возникшая два десятилетия назад, прокламирует приоритет коммуникации над информацией и диалог как основной учебный жанр. Исходным основанием для этого служит известный тезис Л.С. Выготского о понимании как переводе внешних значений на ментальный язык внутренней речи, и мысль М.М. Бахтина о необходимости, как минимум, двух диалогизирующих сознаний для появления нового смысла.
Учебное общение предполагает своим предметом область тех или иных предметных значений, например, истории. Но выстроить реальный диалог на материале сложившихся монологических жанров (учебник, лекция) невозможно: любой авторский дискурс интенционально направлен на ассимиляцию читательской позиции, которая, к тому же, оказывается слабее авторской (слабее - как ученическая в дисциплинарном пространстве школы).
Пример возможности равноправного диалога дает художественное произведение, позволяющее появиться достаточно большому количеству различных, но равномощных интерпретаций. История, имеющая непреодолимо нарративный характер, казалось бы всем своим «телом» противостоит реальному с ней диалогу в условиях учебной ситуации. Возможным исключением может стать «нарративное понимание» (П. Рикер), которое формулируется довольно просто: чем пространнее и конкретнее повествование, тем лучше его понимание. Однако, нарративное понимание не обеспечивает личностное смыслополагание в предметном пространстве, которое в качестве цели заявляет коммуникативная дидактика. Это все равно, что заучивать наизусть хорошие стихи, полагая, что подобная процедура углубит их понимание.
Выход можно найти в трансформации учебного материала истории в произведение (точнее – в квази-произведение). Для школьной истории нами предложены, вместо учебников, специальные конструкты - документально-историографические комплексы, которые составляются таким образом, что обладают свойством порождать неограниченное количество интерпретаций, обеспечивая школьникам исследовательскую деятельность. Эта технология позволила осуществить лозунг «Дети пишут историю» даже в буквальном смысле.
Принципы собирания документально-историографических комплексов лежат не в сфере историографии или методологии истории (в этом случае невозможно было бы избежать пристрастий составителя), но в области дидактики, свободной от предметной ангажированности.
Контекст понимания – это такое взаимодействие участников учебной ситуации, в котором происходит перевод предметных значений в личностные смыслы (предметные смыслы), которые, будучи артикулированными, застывают и становятся новыми значениями.
Диалогическая коммуникация, таким образом, становится единственным способом перевода «значения» в «смысл» и далее – в новое «значение».
Обобщенную структуру учебной деятельности студента (школьника) можно представить в виде трех блоков: поискового, смыслополагающего и текстопорождающего. Разумеется, такое различение весьма условно, и в реальной образовательной практике эти блоки тесно переплетены.
СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА
|
БЛОК I |
БЛОК II |
БЛОК III |
|
Добывание
|
Обработка |
Описание
|
|
Получение
|
Перевод предметных значений в личностные смыслы |
Перевод
|
|
Поисковые |
Исследовательские |
Риторические |
|
ПОИСК |
СМЫСЛОПОРОЖДЕНИЕ |
ОБЪЯСНЕНИЕ |
Контекст понимания обеспечивает такое диалогическое общение субъектов учебной ситуации с предметным содержанием и между самими участниками, которое чревато новыми смыслами. По сути, создается насыщенная предметными значениями и субъективными смыслами среда, которая создает условия для смыслополагания и текстопорождения. Но, в отличие от традиционной детерминистской образовательной системы, эта среда лишь создает условия, то есть носит вероятностный, а не безусловный, характер.
Для исторического образования необходим ряд технологических решений, позволяющих эксплицировать теоретические принципы в образовательную практику. Такой технологией можно считать предложенную нами схему организации исторического материала.
Схема полного описания исторического события
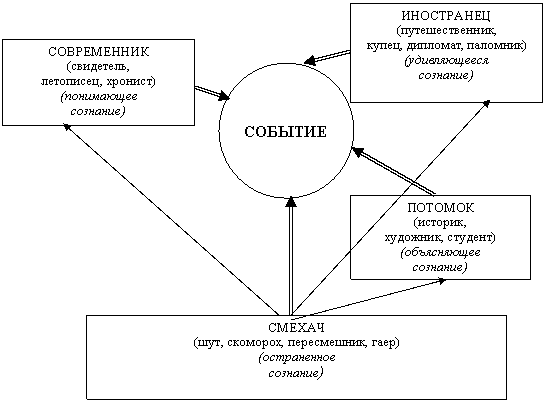 |
Описание события с 4-х точек зрения соответствует принципу полноты описания: позиция современника события вполне может быть обозначена как метонимическая, «потомок» это синекдохическая позиция, иностранец, описывающий чужую страну, делает это с помощью метафорической стратегии, ироническая позиция «смехача» может быть названа привилегированной, ибо обращена и к самому событию, и к серьезности трех иных позиций.
Изменение коммуникативного пространства учебного занятия может изменить речевые жанры: диалогическая реплика становится ведущим речевым жанром, появляются метаречевые и двунаправленные реплики.
Создание контекста понимания позволит наполнить смыслами образовательное пространство современной школы и ВУЗа.
А.В. Уланова, Н.Т. Тарумова
(Москва, wppet@rambler.ru)
Научный фон для понимания Естественнонаучного текста: культурологический аспект
Понимание научного текста связано с использованием и созданием как языковых, так и внеязыковых знаний для восприятия этого текста. Исследование рецепции научного текста связано поэтому с установлением научного фона, на котором следует воспринимать этот текст. Поскольку научный фон создается в рамках образовательной системы и привязан к конкретной эпохе, проблема понимания научного текста приобретает важный культурологический аспект. В докладе излагаются результаты исследования взаимодействия школьного и вузовского образования на рубеже 19-20 вв. как важнейшего фактора, предопределяющего понимание естественнонаучного текста указанной эпохи.
Для выполнения данного исследования необходимой предпосылкой является осмысление научно-педагогического наследия конкретных ученых, реализованного в их текстах. В научный оборот нами были введены некоторые неизвестные работы профессора, декана физико-математического факультета Московского университета Н.В. Бугаева (1837-1903), посвященные школьной и университетской образовательным системам. Внушителен объем материалов, посвященных проблемам школьной образовательной системы (41 ед. хр. 322 лл.), уступающий только физико-математическим работам и переписке. К этому разделу отнесены рукописи, посвященные вопросам развития средней школы, ее реформе, школьным учебникам и задачникам, планы уроков для классической гимназии и реальных училищ и др. Многие из материалов так и не были опубликованы. Доклад посвящен анализу указанных материалов, из которого вырисовываются стратегии и тактики по созданию того фона знаний, который позволил бы не только пассивно воспринимать научные тексты, но и создавать новые научные знания. Главной бедой своего времени Н.В. Бугаев считал разрыв связи между средними учебными заведениями и университетами. В результате возникало противоречие между двумя «фонами знаний». На устранение этого разрыва и были направлены усилия Н.В. Бугаева.
А.В. Уржа
(Москва, English2@yandex.ru)
«Случайности» переводческой интерпретации произведения в контексте его коммуникативно-семантического устройства
Предметом исследования стали явления, традиционно трактуемые как нестандартные, маргинальные случаи в области профессионального художественного перевода. Это кардинальные искажения семантики оригинального произведения, которые невозможно объяснить ни традиционными проблемами языкового характера (несовпадением грамматических, лексических, стилистических систем языков), ни осознанным «сотворчеством» переводчика, интерпретирующего авторский текст. Сопоставительный анализ вариантов перевода произведения относительно оригинала позволяет отметить сходные черты некоторых искажений и выявить их связь со спецификой коммуникативно-семантической организации оригинального текста, обусловливающей восприятие и воссоздание произведения на другом языке. Представляется возможным выделить некоторые типичные «провоцирующие» элементы текстовой композиции оригинала, где искажения наиболее вероятны.
Например, сходные черты обнаруживаются в многочисленных случаях следующего рода:
|
"Well," said the Linnet, hopping now on one leg and now on the other, "as soon as the winter was over, the Miller said to his wife... |
«Дальше, - сказала Коноплянка, перескакивая с одной ножки на другую, - как только прошла зима… Мельник объявил своей жене…» (Бертенсон) «Ну так вот, - сказала Коноплянка, прыгая то на одной ножке, то на другой…» (Габбе) |
«Ну, - сказала Коноплянка, перепрыгивая с одной ветки на другую, - как только прошла зима,.. Мельник сказал своей жене…» (Ликиардопуло) «Ну, - сказала Коноплянка, прыгая то на одну ветку, то на другую…» (Соколова) |
|
He (the menial) pointed to garments; - they were muddy and clotted with gore. I spoke not, and he took me gently by the hand: it was indented with the impress of human nails. |
Он (слуга) указал на мое платье; оно было обрызгано грязью и запачкано густой запекшейся кровью. Я не говорил ни слова, и он тихонько взял меня за руку; на ней были вдавленные следы человеческих ногтей. (Бальмонт) |
|
Он (слуга) взглянул на мою одежду; она была выпачкана грязью и кровью. Не говоря ни слова, он взял меня за руку; на ней оказались следы от ногтей человеческих. (изд. Сытина) |
|
|
Он (слуга) указал мне на мою одежду, которая была покрыта грязью. Я ничего не ответил и он, продолжая говорить, взял меня за руку; на ней были следы человеческих ногтей. (Вестник ин. литературы) |
Анализируя подобные случаи, можно отметить, что внимание переводчика, сконцентрированное на основных событиях сюжета, пропускает неточности в интерпретации элементов «фона», деталей, сопровождающих повествование. Интересно, что неточности такого типа остаются незаметными и для читателя при быстром, поверхностном прочтении перевода, поскольку не играют роли в развитии действия. Расхождения подобного рода в исследованных материалах (переводах прозаических произведений Э. По и О. Уайльда) многочисленны. В некоторых переводах «Соловья и розы» О. Уайльда дочь профессора во время объяснения со студентом не наматывает, а разматывает клубок шелка; Ласточка в «Счастливом Принце» вспоминает, как жила на реке «прошлой зимой», а не летом (а ведь в «северной Европе», где происходит действие сказки, это невозможно); король в рассказе Э. По «Прыг-Скок» выплескивает в лицо танцовщице не полный кубок вина, а «остаток вина из кубка» и т.д.
Особого внимания заслуживают многочисленные случаи неточной интерпретации слов, обозначающих количество, в том случае, если они оказываются в указанной позиции «фона» сюжетного действия:
|
After many years spent in foreign travel, I sailed… |
После многих лет, проведенных в дальних странствованиях, я отплыл... (Широков) |
После нескольких лет, проведенных в скитаниях по чужим краям, я отплыл... (Бальмонт) |
В некоторых случаях перевод «many» как «несколько», а не «много», изменяет семантику целого отрывка и тем не менее встречается у разных переводчиков:
|
We got under way with a mere breath of wind, and for many days stood along the eastern coast of Java… |
Мы покинули порт при еле заметном ветерке и в течение долгих дней шли вдоль восточного берега Явы... (Беккер) Мы отплыли при легчайшем ветре и много дней держались у восточного берега Явы... (Широков) |
Мы отплыли под дуновением попутного ветра и в течение нескольких дней шли вдоль восточного берега Явы... (Бальмонт) Мы вышли в море с попутным ветром и в продолжение нескольких дней шли вдоль восточного берега Явы... (Вестник ин. лит.) |
Другой композиционный элемент подвергается изменениям в следующих случаях:
|
"Drink, I say!" shouted the monster, "or by the fiends-" The dwarf hesitated. The king grew purple with rage. The courtiers smirked. |
- Пей же, наконец! – заревел владыка, - или, клянусь чертями… Карлик все колебался. Король побагровел от злости. Придворные ухмылялись. (Вестник и.л) |
- Пей, говорят тебе! - закричало чудовище, - или, клянусь… Карлик колебался. Король побагровел от бешенства. Царедворцы содрогнулись. (изд. Сытина) |
|
The forehead was high, and very pale, and singularly placid; and the once jetty hair fell partially over it, and overshadowed the hollow temples with innumerable ringlets, now of a vivid yellow, and jarring discordantly, in their fantastic character, with the reigning melancholy of the countenance. |
Лоб был высокий, бледный и необычайно ясный; прядь волос, когда-то черных, свешивалась над ним, бросая тень на впалые виски, с бесчисленными мелкими локонами, теперь ярко желтыми и представлявшими своей фантастичностью резкий контраст с печальным выражением лица. (Энгельгардт) |
Её высокое и чрезвычайно бледное чело приняло отпечаток странного мира. Некогда черные, как смоль, волосы отчасти ниспадали на лоб и осеняли виски, перерезанные множеством жилок, принявших желтоватую окраску и представлявших резкий контраст своими фантастическими узорами с меланхоличным выражением лица. (Вестник ин. лит.) |
Здесь, напротив, представлены кульминационные моменты сюжетного действия, и появление ошибок можно объяснить влиянием читательских эмоций переводчика, неосознанно «подстраивающего» текстовую информацию под общую тональность, в которой событие изложено автором. Этот тип ошибок в переводах встречается реже: изменения в тексте заметны и значительны. В переводе рассказа «Рукопись, найденная в бутылке» герой попадает на корабль-призрак не благодаря роковому удару волны, бросившему его на чужую палубу, а сам «со страшной силой» хватается «за снасти встречного корабля». В переводе «Счастливого принца» Скворец (в др. пер. Ласточка), встретив Тростинку, влюблено «застывает» (К. Чуковский) и спрашивает ее «робко» (Е. Буланина), хотя в оригинале подчеркнуто, что он заговорил с ней сразу, потому что «всегда любил приступать прямо к делу», и т.д.
Искажения, возникающие по вышеописанным причинам, неосознанны. Однако их изучение может побудить последующих переводчиков проявить повышенное внимание к таким элементам текстовой организации оригинала, как изображение фона действия, с одной стороны, и формирование кульминационных «пиков» повествования, с другой. Только в этом случае коммуникативно-семантическая организация произведения будет сохранена в переводе, и его читатель сможет воспринимать текст, «играя по правилам автора» и испытывая те же эмоции, что читатель текста оригинального.
Литература и цитируемые переводы
1. Oscar Wilde “The Devoted Friend”
«Преданный друг». Бертенсон Т. и С. Спб., 1909
«Преданный друг». Ликиардопуло М. М.: а/о «Универсальная библиотека», 1910
«Преданный друг». Соколова А. СПб.: т-во А.Ф.Марксъ, 1912
«Преданный друг». Габбе Т. М.: Детская литература, 1962
2. Edgar Poe “Berenice”
«Берениса». Анонимный перевод. Т-во тип. И. Д. Сытина, 1908
«Береника». Бальмонт К. Д. «Скорпион», 1911
«Вероника». Анонимный перевод. СПб., «Вестник иностранной литературы», 1912
«Береника». Энгельгардт М. А. СПб., прилож. к журналу «Новая жизнь», 1914
3. Edgar Poe “МS. found in a Bottle”
«Манускриптъ, найденный в бутылке». Бальмонт К. Д. «Скорпион», 1911
«Рукопись, найденная в бутылке». Анонимный перевод. СПб., «Вестник иностранной литературы», 1912
«Рукопись, найденная в бутылке». Широков Ф. В. М.: Наука, 1970
«Рукопись, найденная в бутылке». Беккер М. М.: Худ. литература, 1976
4. Edgar Poe “Hop-Frog or the Eight Chained Ourang-Outangs”
«Скакунъ-лягушка». Анонимный перевод. Т-во тип. И. Д. Сытина, 1908
«Лягушонокъ-Попрыгунъ». Анонимный перевод. СПб., «Вестник иностранной литературы», 1912
Уржа А. В. Организация русского переводного художественного текста с позиций коммуникативной грамматики языка (на материале переводов рассказов Э. По и сказок О. Уайльда). АКД. М., 2002.
Л.Л. Федорова
(Москва, lfvoux@yandex.ru)
О двух стратегиях понимания: «гуманитарное» и «техническое» толкования (на примере слов беспорядок, кавардак, беспредел)
"Несомненно, что характер образования – гуманитарное оно или техническое – накладывает отпечаток на человеческую личность, на систему его ценностей" (Крысин, 2003). Ранее нами было высказано предположение, что эти направления – техническое и гуманитарное – задают два различных способа видения мира: одно опирается на достоверное знание, другое – на знание-мнение, что проявляется в категоричности, уверенности и позитивности утверждений студентов технического образования и в неуверенности, уклончивости суждений студентов-гуманитариев (Федорова, 1999).
Задачей настоящего исследования было проследить, имеются ли значимые отличия в стратегиях толкования, объяснения значения слов у этих групп. Можно предположить, что стратегии толкования соответствуют разным способам представления, понимания смысла.
Для этого двум группам испытуемых (студентов старших курсов гуманитарных и технических вузов, названных условно гуманитарии и технари) было предложено попытаться определить значения слов беспорядок, беспредел и кавардак, чтобы помочь специалистам составить их словарные описания. Тем самым цели исследователя были намеренно скрыты от испытуемых. Студенты в процессе интервью делали попытки спонтанно определить значения предложенных слов.
Толкование значений слов, даваемые спонтанно, отличаются от словарных определений. В принципе можно различать две основные стратегии толкования: путем логического определения значения или через образное его представление. Основное различие двух стратегий в том, что логическое определение стремится к однозначности, к установлению тождественной референции с определяемым понятием, в то время как образное ищет подобия, строится на ассоциациях, конкретных примерах. По сути, это разделение близко к традиционному разделению номинативных и реальных определений (восходящему к спору «номиналистов» и «реалистов»).
Наша гипотеза заключается в том, что гуманитарии более склонны давать образные толкования, в то время как технари стремятся к логическим определениям.
Для слова беспорядок в группе, условно названной технари, преобладают толкования логического типа (по определяющему признаку, формальному или функциональному), например:
(1) Беспорядок – отсутствие порядка;
(2) Беспорядок – проявление неаккуратности.
Есть у технарей и определения образного типа, например:
(3) Беспорядок ... беспорядок ассоциируется просто ... с беспорядком в квартире, не более того. Бытовой беспорядок. Все разбросано и все.
Соотношение логических и образных определений в группе технарей 3:1.
У гуманитариев соотношение иное: ассоциативные, образные определения преобладают над логическими в отношении 2:1.
Примеры образных определений:
(4) Беспорядок – это просто когда две-три вещички валяются на полу, на коврике; пыль, значит, не протерта, тарелочки не помыты.
(5) Беспорядок – ассоциация с ... беспорядок дома. Допустим, накидано много одежды, я прихожу и говорю: какой беспорядок!
Логические определения строятся как уточнение категориального понятия или как ряды синонимов:
(6) Беспорядок – это бардак полнейший где-либо, в каком-либо помещении или в каких-нибудь вещах.
(7) Беспорядок – хаос, бардак.
Таким образом, в толковании слова беспорядок гуманитарии предпочитают образные, конкретно-ассоциативные определения, а технари – логические; тем самым технари оказываются "номиналистами", а гуманитарии "реалистами".
Для проверки гипотезы о предпочтениях стратегий посмотрим теперь на определения слова кавардак. У технарей исходное соотношение логических и образных толкований (3:1) в точности сохраняется. Логические определения могут использовать отсылку к характерной ситуации или уточняющие квалификации к категориальному понятию:
(8) Кавардак – это когда наблюдается полнейшее отсутствие порядка в чем-либо ... и полнейшее отсутствие понимания в чем-либо.
(9) Кавардак – это беспорядок на чердаке, я так думаю.
(Здесь очевидно сближение по паронимической связи кавардак и чердак.)
(10) Кавардак – тот же самый беспорядок в более аккуратном виде.
(11) Творческий беспорядок, кавардак вот.
Образные толкования представляют собой, по сути, поиск конкретных ассоциаций, которые указывают на прототипические ситуации, не определяя их:
(12) Кавардак ... кавардак ... В кладовке может быть кавардак.
(13) Кавардак - это обычная ситуация у меня в комнате. Когда я прихожу домой и ... постоянно родители ругаются, что в комнате у меня творится кавардак.
У гуманитариев для слова кавардак преобладают образно-ассоциативные толкования (2:1). Образные толкования нередко основываются на использовании фразеологизмов:
(14) Кавардак – это когда все шурум-бурум, когда все вместе соединяется, и беспредел и беспорядок, и когда дома никого не бывает никогда.
(15) Кавардак – все валяется вверх тормашками.
Образные толкования могут быть и неконкретными, обобщающими, когда в поисках определения выстраивается ряд нечетких ассоциаций и приблизительных оценок:
(16) Кавардак – это какая-то неразбериха ... Это что-то непонятное, какая-то суета.
Логические определения стремятся к точности, сохраняя некоторую уклончивость:
(17) Кавардак – это, наверно, высшая степень беспорядка.
(18) Кавардак в принципе можем охарактеризовать как не-расстановку ..., а вот именно – неправильная расстановка.
Наконец, рассмотрим толкования слова беспредел.
Для него у технарей также преобладают логические толкования.
(19) Беспредел означает беззаконие, как ... то есть нету ничего законного <...> нету никакого предела, то есть люди делают, что хотят, творят, что хотят.
(20) Беспредел – беспорядок, можно так сказать – анархия.
Образное определение может быть логически некорректным:
(21) Беспредел – как правило, это руководитель, который пользуется своим должностным положением и не знает элементарных границ и творит, что хочет, как со своими крепостными. Хочу – помилую, хочу – казню.
Соотношение логических и образных толкований 2:1.
Гуманитарии опять предпочитают образные толкования:
(22) Беспредел – это когда царит хаос, вещи дома все разбросаны, когда никто маму не слушает, папу никто не слушает, дети все гуляют, дома ничего не делается.
(23) Беспредел – это что-то такое непонятное, неудержимое.
Встречаются и смешанные толкования, когда незавершенное логическое определение уточняется конкретными ассоциациями:
(24) Беспредел – это то, что за гранью допустимого, т.е. когда люди выходят за рамки, например там ... не знаю, там ... бьют стекла в подъездах <...> Беспредел – это когда твой молодой человек тебя дурой назвал.
Чисто логические определения используют ряды синонимов, дополняющих друг друга:
(25) Беспредел – беспорядок, беззаконие, несоблюдение прав.
(26) Беспредел – ... нет закона, нет власти.
Соотношение образных и логических толкований по-прежнему 2:1.
Полученные результаты соотношения логических и образных определений у технарей и гуманитариев можно представить в таблице.
Таблица 1
|
|
технари (лог. : образ.) |
гуманитарии (лог. : образ.) |
|
беспорядок |
3 : 1 |
1 : 2 |
|
кавардак |
3 : 1 |
1 : 2 |
|
беспредел |
2 : 1 |
1 : 2 |
|
общее соотн-ие |
0,73 : 0,27 |
0,33 : 0,67 |
Структура определений, выбираемых информантами, также может быть обобщена в таблице (Х – определяемое, У – «нечто»):
Таблица 2
|
Образные определения |
Логические определения |
|
Х (Lос) – (это когда) S…; Х ассоциируется с Х Lос; Х – это что-то такое А; Х – это, допустим, S…
|
Х – (означает/есть) У (А У /У N /У Loc); Х – это такое У, которое /когда S… ; Х – это то, что Loc…
|
· Loc = «где-то»: в доме, в стране, в голове…
· А = «какое-то»: непонятное, выходящее вон…
· N = «чего-то»: порядка, беспорядка...
· S = «имеет место ситуация».
Теперь уже с большей определенностью можно говорить о предпочтениях в выборе стратегий. Технари стремятся дать понятию логическое определение: Х есть У (Х – У) или Х – это то, что ... . Гуманитарии используют неопределенно-образные толкования: Х – это что-то такое ... или конкретно-образные: Х – это когда ...
В общем, обнаруженная яркая тенденция не кажется удивительной; очевидно, что если этот признак выбора стратегии вообще релевантен для описания речевого поведения данных групп, то он и должен бы вести себя подобным образом. Поскольку логическая категоризация явлений характерна для левополушарного типа мышления, а образная для правополушарного, то к первому типу естественно тяготеют технари, а ко второму гуманитарии. Выбор образования, которое и само формирует систему ценностей, соотносится с исходной психологической характеристикой.
Литература:
Крысин 2003 – Л.П. Крысин. Речевой портрет представителя интеллигенции // Современный руский язык: Социальная и функциональная дифференциация. М., 2003. С. 484.
Федорова 1999 – Л.Л. Федорова. Некоторые особенности речевого поведения представителей гуманитарной и технической интеллигенции // Язык. Культура. Гуманитарное знание. Научное наследие Г.О. Винокура и современность. – М., 1999.
О.Е. Фролова
(Москва, olga_frolova@list.ru)
Субъект речи в художественном тексте
Традиционно различают два типа субъекта речи от 1 л. ед.ч. и от 3 л. ед.ч. Первый принадлежит, а второй не принадлежит миру текста [Успенский 1970, Падучева 1996]. Сказовые формы (или свободный косвенный дискурс в терминологии Е.Е.Падучевой) можно [Падучева 1996] можно рассматривать как промежуточную форму.
При повествовании от 1 л. внутри некоторого фрагмента текста, который мыслится и воспринимается как целостный, смена субъектов речи возможна при введении прямой речи персонажа. Ввод нового равноправного субъекта речи требует композиционных последствий: текст должен быть расчленен на части, ориентированные на другие субъекты речи в 1 л.: вставная новелла — текст в тексте (рассказ Казбича о Карагезе), роман в письмах («Опасные связи»), деление романа на повести: («Герой нашего времени», «Шум и ярость»).
Субъект речи в 1 л. предполагает ограничения на объем информации, а также телесность, связанную с позицией наблюдателя (субъекта модуса) во времени и пространстве. Последние ограничения модусного плана имеют вынужденный характер. В отличие от повествования в 1 л., субъект речи в 3 л. не может иметь информационных, модусных и телесных ограничений, т.к. наделен всеведением и свободен в перемещении в пространстве и времени. При третьеличном повествовании ограничения на объем информации, которым наделен субъект речи, необязательны и оговариваются специально. «Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе» («Шинель»); «Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить» («Шинель»). Неоднозначность последнего фрагмента в том, что именная группа никто может быть интерпретирована неоднозначно: 1) эксклюзивно по отношению к субъекту речи и референции в 3л.: никто из персонажей, сослуживцев Башмачкина, 2) инклюзивно, т.е. никто: ни персонажи, ни автор. Гоголь не снимает неоднозначность интерпретации. Подобный прием «сдвигает» повествование, формально организованное от 3 л., в сторону сказа или повествования от 1 л. ед.ч.
Повествование от 1 л. предполагает единство субъекта речи, модуса и референции и диктует членение референциального пространства текста. Различия между повествованием в 1 л. и 3 л. в том, что первый тип предполагает «композиционные последствия» в организации текста.
В отличие от повествования в 1 л., если субъект речи выступает в 3 л., появление 1 л. ед.ч. допускается в формах прямой речи персонажей. Однако при повествовании в 3 л. возможна экспликация автора в 3 л. или в 1 л. мн.ч. в метатекстовой функции. Так в «Мертвых душах» повествование организует автор: «Может быть, некоторые читатели назовут все это невероятным; автор тоже в угоду им готов бы назвать все это невероятным; но, как на беду, все именно произошло так, как рассказывается, и тем еще изумительнее, что город был не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц». Появление форм 1 л. ед.ч. не может интерпретироваться только как метатекстовая функция, местоимение я выступает как субъект модуса, требующего личностного воплощения. Субъектом эмотивного модуса выступает местоимение 1 л. ед.ч.: «Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, - любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд». Гоголь разводит две возможности организации текста: метатекстовую от 3 л. (употребляя термин автор или мы) и личностную (употребляя местоимение 1 л. ед.ч.).
Т.о., при повествовании от 3 л. ед.ч. и при единстве референциального пространства возможны два типа субъектов в 1 л.: персонажа и лирического автора. Во втором случае появление подобного субъекта речи работает как средство дополнительного членения текста, даже если эти разрывы не выражены композиционно, как в «Мертвых душах», они воспринимаются как лирические отступления.
Разрушение целостности единого референциального пространства возможно в модернистской литературе. Так в начале романа «Дар» возникает субъект речи в 1л. ед.ч., соотносимый с автором текста и главным героем, Годуновым-Чердынцевым: «Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192... года (иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы - в силу оригинальной честности нашей литературы -- не договаривают единиц), у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон,… <…> Тут же перед домом (в котором я сам буду жить), явно выйдя навстречу своей мебели (а у меня в чемодане больше черновиков чем белья) стояли две особы». Роман построен на чередовании фрагментов от 3 и 1 л. ед.ч., соотносимых с главным героем. Переходы от 3 к 1 л. ед.ч. не маркированы композиционно и не опосредованы эксплицитным ментальным или перцептивным модусом.
В романе Д.Рубиной «На солнечной стороне улицы» применен другой прием: перволичное повествование чередуется с третьеличным, однако во фрагментах от 1 л. ед.ч. лирические отступления фабульно организованы. Расчленение референциального пространства происходит по линии фикциональности/нефикциональности, т.к. фрагменты от 1 л. ед.ч. представляют собой воспоминания о детстве и юности писательницы Д.Рубиной. Автор задействует фоновые знания адресата. Вторая, фикциональная, линия связана с историей художницы Веры. В романе кореферентные цепочки «сшивают» обе линии от 1 и 3 л.
Т.о., понимание текста связано с системой субъектов речи, которые определяют характер субъекта/субъектов модуса и модусную структуру текста. Маркированным субъектом речи является субъект речи, соотносимый с 1 л. ед.ч. Такой субъект речи определяет композицию текста и членение референциального пространства текста.
Литература
Падучева Е.В. Семантические исследования. М., 1996.
Успенский Б.А. Поэтика композиции. М., 1970.
М.А. Членов, C.Ф. Членова
(Москва, svetlanachl@mtu-net.ru)
Когнитивный аспект систем ориентации в пространстве (Восточноиндонезийские модели)
Каждая культура создает свою систему когнитивных категорий, в рамках которой складываются стереотипические представления о главных закономерностях бытия, называемые картиной мира. Одной из ее наиболее главных составляющих, безусловно, является ориентационная система.
Ориентационная система – это система категорий, расчленяющая пространство и организующая его в соответствии с некоторым набором правил. Ориентационные системы существуют в каждой культуре и могут считаться основой, на которой развивается в дальнейшем осознание других типов связей и зависимостей предметов окружающей человека действительности, строятся все прочие категории.
Будем различать два основных вида ориентационных систем: абсолютные, то есть не зависящие от положения Эго в пространстве и ориентирующиеся на астрономические или метеорологические явления, и относительные, определяющиеся исключительно in situ или по характеру местности, или по положению Эго. В любой этнической культуре, как правило, присутствуют оба типа ориентационных систем, причем в процессе эволюции возрастает значимость абсолютных систем как элемента картины мира и падает значимость относительных.
В наиболее архаичных культурах, в частности, на восточноиндонезийском острове Серам, присутствуют только относительные системы, ориентированную на береговую полосу. В стадиально продвинутых культурах ориентационные системы, сводящиеся к противопоставлению «право – лево», как правило, теряют оценочный характер и перестают быть структурным компонентом картина мира.
Основой большинства ориентационных систем Восточной Индонезии являются два типа противопоставлений: «суша – море» и «верх – низ». Последнее противопоставление проводится как по вертикали, так и по горизонтали. Горизонтальный «верх» обычно определяется по отношению к паре «суша – море», чаще всего он совпадает с правой стороной при Эго, обращенном к морю. Есть, однако, и тенденция к закреплению горизонтального «верха» за югом.
Оба вида противопоставлений носят аксиологический характер и представляют собой основу для осмысления и определения разнообразных явлений внешнего мира, ранжированных по отношению к этим двум осям. В частности, «суша» и «верх» образуют поле уранического, положительного, правого, мужского начала, а «море» и «низ» – хтонического, отрицательного, зловредного, женского начала. В соответствии с подобным разделением членятся не только мифологические представления, но и объекты материальной культуры, поселения, жилища, ритуалы, формы традиционных социальных институтов.
Усложнение социальной организации и развитие стратифицированных форм ведет к перемене точек отсчета. Так, в феодальном султанате Тернате горизонтальный «верх» начинает ассоциироваться с резиденцией монарха, тем самым нарушая стройность категориальной системы. Аналогичные явления находим и в стадиально близких культурах других регионов. Например, ветхозаветный глагол ‘álá «восходить» может обозначать и движение в горизонтальном направлении. (Ср. нынешнее употребление производного от этого глагола существительного алия ‘восхождение’ применительно исключительно только к иммиграции в Израиль).
Основной осью абсолютных ориентационных систем Восточной Индонезии является «восход – заход», на ней строится представление «восток – запад». Две другие стороны света определяются не этой осью, как в ряде европейских стран, а независимо от нее, по направлению муссонов. Обращает на себя внимание устойчивость абсолютных пространственных моделей в районах с меридиональной направленностью берега, то есть там, где «восход – заход» может быть соотнесен или даже отождествлен с осью «суша – море». В районах, где берег вытянут с запада на восток, как, например, на острове Серам, абсолютные системы вообще могут не вырабатываться.
Аксиологическая роль абсолютных ориентационных систем в традиционных обществах сравнительно невелика, когнитивный аспект связан, главным образом, с относительными системами. В более сложных общественных формациях два типа ориентационных систем выравниваются в своих когнитивных функциях, а стадиально поздние общества переходят исключительно к абсолютным системам ориентации
Непонимание в межкультурной коммуникации связано в первую очередь с различием картин мира. Осмысление когнитивных категорий другой культуры можно расценивать как попытку сократить расстояние между двумя культурами.
З.М. Шаляпина
(Москва, ZMShal@yandex.ru)
Аналитические показатели "сильного" управления
в сущностной модели естественно-языкового синтаксиса
Сущностная модель языка, разрабатываемая в рамках исследований по японско-русскому автоматическому переводу в Институте востоковедения РАН, ставит в центр описания языковой синтагматики понятие структурной валентности языковой сущности, отвечающее за все виды синтагматических отношений. На уровне синтаксиса синтагматическая структура определяется в этой модели как суперпозиция трех отдельных, хотя и взаимоувязанных между собой подструктур, образуемых содержательно различными типами отношений. Это:
· ПВР-структура, формируемая прямыми реализациями валентностей – стрелками дерева зависимостей, непосредственно связывающими носитель и заполнитель реализуемой валентности. При этом несущественно, принадлежит ли эта валентность своему носителю изначально или унаследована им в данном контексте от другого участника структуры.
· КВН-структура, образуемая отношениями контекстного валентностного (КВ-) наследования. Они обеспечивают косвенную реализацию валентностей путем их делегирования от исходных носителей к их структурным спутникам и реализации (прямой или опять-таки косвенной) уже при этих спутниках. В терминах КВ-наследования задается синтаксический "контроль", "перенос аргументов" и другие аналогичные явления.
· Анафор-структура, объединяющая анафорические отношения (понимаемые в широком смысле, включая и кореферентность, и равноименность), которые выходят за рамки дерева зависимостей.
Здесь нас будут интересовать только ПВР- и КВН-структура. Покажем, как трактуются при их разграничении "сильноуправляемые" предлоги и аналогичные им аналитические служебные показатели (союзы, "падежные" частицы, послелоги и т.п.), оформляющие реализацию "сильных" – актантных – валентностей в дереве зависимостей. Ниже такие аналитические средства оформления валентностных реализаций называются ВР-оформителями.
При традиционных соглашениях о структурах зависимостей в модели "Смысл-Текст" [2] ВР-оформители фигурируют только в поверхностно-синтаксической структуре, где служат непосредственными заполнителями маркируемых ими валентностей. В глубинном синтаксисе они должны уступать свое место единицам, подчинявшимся им в поверхностной структуре: припредложным существительным, вводимым союзами придаточным и оборотам и т.п. В результате поверхностные и глубинные структуры конструкций с ВР-оформителями различны по составу и конфигурации. Из глубинно-синтаксических структур исключаются также слова знаменательных частей речи, являющиеся значениями "синтаксических" лексических функций типа Oper, Func, Labor. Это, с одной стороны, указывает на их функциональное сходство в данном аспекте с аналитическими ВР-оформителями и, с другой стороны, подчеркивает противопоставленность поверхностного и глубинного синтаксиса.
Однако есть целый ряд единиц, которые сходны с синтаксическими ЛФ в том, что, как и они, способны "перетягивать" к себе – наследовать – валентности своих контекстных структурных спутников и вводить единицы, заполняющие эти валентности в содержательном смысле. Ср. хотя бы такие глаголы, как пытаться, успевать, хотеть, намереваться, отказываться, грозить, ожидать, благодарить, желать и т.п. Поскольку их семантика не сводится к лексико-функциональной, такие единицы не могут быть исключены из глубинной структуры предложения. Между тем они аналогичны синтаксическим ЛФ и служебным ВР-оформителям в том, что вводят в структуру заполнители валентностей своих спутников, как правило, осуществляя над ними полный или частичный синтаксический контроль.
Таким образом, высвечивая сходство синтаксических ЛФ с ВР-оформителями, существующие условности представления структур зависимостей вместе с тем не позволяют отобразить сходство тех же синтаксических ЛФ с другими средствами синтаксического контроля. Остается невыявленным и явное сходство конструкций с "сильноуправляемыми" и "слабоуправляемыми" предлогами (resp., союзами и т.п.).
Сущностная модель языковой синтагматики может обеспечить, как нам кажется, более полную экспликацию этих структурно-функциональных сходств. При дифференциации ПВР- и КВН-структур предложные (союзные и т.п.) конструкции с "сильным" и "слабым" управлением различаются прежде всего не своей "глубиной" (степенью "семантичности") и не типом или конфигурацией связей на разных уровнях их представления, но лишь "плотностью" этих связей. В "слабоуправляемых" предложных конструкциях имеют место только ПВР-связи: "хозяин" предлога заполняет его "первую" валентность, реализуемую в режиме юнкции (в приводимых ниже примерах – стрелка с индексом j1), припредложная единица – "вторую", реализуемую в режиме нексуса[43] (стрелка с индексом n2). Например:
![]() (1) играть j1(на) на n1(на)
газоне.
(1) играть j1(на) на n1(на)
газоне.
Конструкции с "сильноуправляемыми" предлогами имеют точно такую же ПВР-структуру, но дополненную еще одной связью – КВН-отношением (штрих-пунктирная стрелка), делегирующим (символ > или < в направлении стрелки) одну из валентностей "хозяина" предлога к самому предлогу, где она реализуется как его "вторая" валентность. Например:
![]() 2(настаивать)>2(на)
2(настаивать)>2(на)
(2) настаивать j1(на) на n1(на) невиновности <X-а>
При этом конструкции с "сильным" управлением, маркируемым аналитическими служебными ВР-оформителями, перестают принципиально противопоставляться конструкциям с участием "синтаксических" ЛФ и других средств синтаксического контроля или переноса аргументов. Их различия сводятся по сути только к номеру валентности, заполняемой единицей-"наследником", и к направлению стрелки, реализующей эту валентность в ПВР-дереве. В конструкциях со служебными ВР-оформителями такая стрелка всегда реализует "первую" валентность оформителя и притом в юнктивном режиме, так что он выступает в роли "слуги". В прочих конструкциях с КВН-отношениями связь КВ-наследодателя с КВ-наследником может быть и юнктивной и нексусной в зависимости от формы наследника. Ср.: (3) работа по подготовке специалистов; (4) работа состоит в подготовке специалистов / направлена на подготовку специалистов; (5) работа, состоящая в подготовке специалистов / направленная на подготовку специалистов. В примере (3) валентность лексемы работа на содержание (цель) работы реализована с участием ВР-оформителя (предлога по), в (4) и (5) – с участием лексико-функционального глагола (состоять) или глагольного сочетания (быть направленным), наследующих данную валентность. При этом в примерах (3) и (5) КВ-наследники – resp., предлог по и глагольные единицы состоять или быть направленным – подчинены исходному носителю валентности – лексеме работа, – реализуя свою валентность на нее в режиме юнкции. Пример (4) противопоставлен им обоим в том, что КВ-наследник сам подчиняет себе эту лексему, реализуя соответствующую валентность в режиме нексуса.
На первый взгляд знаменательные КВ-наследники противопоставлены ВР-оформителям в том, что однозначно задают формальный тип наследуемой ими валентности и ее номер в модели управления ее носителя (что позволяет, в частности, приписывать "синтаксическим" ЛФ валентностные индексы, определяя их как Func1, Oper2, Labor13 и т.п.). Оформители же, в частности, предлоги, сами по себе этот тип (номер) не определяют. Но данная разница не абсолютна: существуют и такие глаголы, которые, аналогично предлогам, могут наследовать от разных наследодателей валентности, относящиеся к разным формальным типам и имеющие разные номера. Ср.: (6) X-у грозит потеря (X = А1(потеря): X потеряет); (7) X-у грозит наказание (X = А2(наказание): X-а накажут); (8) X-у грозит конфискация (X = А3(конфискация): у X-а <что-то> конфискуют). Более того, некоторые глаголы в различных контекстах могут наследовать разные валентности от лексически совпадающих наследодателей (так же, как отдельные ВР-оформители – скажем, английский предлог of или японская частица но – способны маркировать разные валентности одного и того же слова). Ср.: (9) X-у предстоит визит родственников и (10) X‑у предстоит визит к родственникам.
Еще один аспект сходства служебных ВР-оформителей со знаменательными КВ-наследниками, который может быть отображен при разграничении ПВР- и КВН-структур, – это допустимость в общем случае для тех и других транзитивного КВ-наследования. В русском языке это свойственно в основном знаменательным единицам, как в примере:
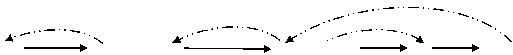 (11) 1(отказаться)<2(командировка)
(11) 1(отказаться)<2(командировка)
1(решить)<1(попробовать) 1(попробовать)<1(отказаться) 2(отказаться)>2(от)
X решил n2(решить) попробовать n2(попробовать)отказаться j1(от ) от n1(от) командировки
Но, например, в японском ВР-оформители могут участвовать и в реализации валентностей других ВР-оформителей. Так, в (12) отглагольный послелог цуйтэ, оформляющий 1-ю валентность существительного мондай "проблема" (на содержание проблемы), реализует через ВР-оформители обе свои валентности: атрибутивная частица но оформляет и наследует его 1-ю валентность, присоединяя его к мондай, падежная частица ни – его 2-ю валентность, наследующую 1-ю валентность мондай:
2(цуйтэ)<1(мондай)
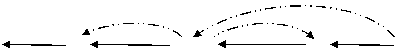 (12)
2(ни) <2(цуйтэ) 1(цуйтэ)>1(но)
(12)
2(ни) <2(цуйтэ) 1(цуйтэ)>1(но)
гэнрё: n2(ни) ни j1(ни) цуйтэ n2(но) но j1(но) мондай
сырье Dat касательно Atr проблема ("проблема сырья")
Таким образом, дифференциация ПВР- и КВН-структур, позволяющая раздельно отображать в грáфе синтаксических отношений прямую и косвенную реализацию актантных валентностей лингвистических предикатов, обеспечивает, как представляется, бóльшую общность описания, чем традиционная структура зависимостей, где для конструкций с ВР-оформителями эти две структуры частично совмещены. Поэтому предложенный подход позволяет в полной мере учитывать при анализе общность многих свойств служебных единиц и для "сильного" и для "слабого" управления. В то же время – в отличие, например, от подхода Даути [4] – не требуется "переинтерпретация" связей, установленных на базе таких общих свойств, при последующем учете ограничений, задаваемых требованиями валентностей предикатов-"хозяев" (КВ-наследодателей). По этим требованиям просто устанавливается КВН-отношение, дополняющее уже полученную ПВР-структуру, но не меняющее ни ее конфигурацию, ни валентностные идентификаторы образующих ее "прямых" зависимостей. Более гибкой становится и сама организация процесса анализа конструкций данного типа, так как порядок рассмотрения общих свойств предлогов, с одной стороны, и ограничений, налагаемых оформляемыми ими валентностями, с другой, в разных контекстах может варьировать – например, в зависимости от типа и степени неоднозначности входящих в эти контексты единиц.
Литература
1. О. Есперсен. Философия грамматики. М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1958.
2. И.А. Мельчук. Опыт теории лингвистических моделей "Смысл « Текст". М.: Наука, 1974.
3. З.М. Шаляпина. Об одном формализме для записи толкований слов и словосочетаний // Обработка текста и когнитивные технологии. 1. М., Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1997, с. 73-110.
4. D. Dowty. The Dual Analysis of Adjuncts/Complements in Categorial Grammar // ZAS Papers in Linguistics, 2000, 17.
Ширяева Т.А.
(Пятигороск, shiryaevat@list.ru)
Модель понимания значения метафоры в дискурсе
Рост теоретического интереса к метафоре был стимулирован увеличением ее присутствия в различных видах текстов, начиная с поэтической речи и публицистики и кончая языками разных отраслей научного знания. Естественно, что экспансия метафоры в разные виды дискурса не прошла незамеченной. В последнее время в метафоре стали видеть “ключ к пониманию основ мышления и процессов создания не только национально-специфического видения мира, но и его универсального образа” [Арутюнова, 1990:6]. Распространение метафоры в многочисленных жанрах художественной, повседневной и научной речи заставляет обращать внимание на утилитарные преимущества, которые дает метафора. Хофман, автор ряда исследований о метафорических выражениях, говорил: “Метафора может быть применена в качестве орудия описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических беседах и в разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в языке программирования, в художественном воспитании и в квантовой механике. Метафора, где бы не встретилась, всегда обогащает понимание человеческих действий, знаний и языка” [Hoffman, 1985: 327].
Мы попытаемся предложить такое описание метафоры, встречающейся в различных видах дискурса, которое бы объясняло, каким образом можно понять соположение референтов, нормально никак не связанных. Мы считаем, что решить данную задачу можно только при том условии, если метафора будет изучена с точки зрения комплексного подхода с учетом той социальной ситуации, которая свойственна тому дискурсу, в котором метафора функционирует. Описание процесса познания, включающего взаимодействие между индивидом и его окружением, позволяет предложить такую модель понимания метафоры, которая объясняет буквальный способ выражения, допускает личное творчество, признает, что значение метафор существенно зависит от контекста и показывает, что в основе семантического процесса лежит когнитивный процесс.
Для понимания значения метафоры, функционирующей в дискурсе, мы предлагаем следующий алгоритм:
Значение метафоры нами будет пониматься по следующему алгоритму. Первый шаг – выявляется достаточный контекст, позволяющий определить предметно-референционную область сообщения. Адекватная теория метафоры включает в себя не только семантическую, синтаксическую и когнитивную теории, объясняющие, каким образом необычное сочетание слов приводит к созданию новых понятий, но и контекстуальные теории относительно внешнего мира, содержащие сведения о словесных ассоциациях, а также о взаимодействии между людьми и их окружением, создающим знание. «Когнитивный процесс, который приводит к созданию метафоры, включен в более широкий процесс познания, имеющий отношение к индивиду в контексте эволюционного процесса, речь идет об эволюции как мозга, дающего аппаратное обеспечение для познания, так и культуры, предоставляющей контекст, в котором через взаимодействие с лингвистическим окружением возникают метафоры» [Маккормак, 1990: 361]. М.Блэк неоднократно подчеркивал, что «семантика метафоры сильно зависит от контекста и ситуации речи. Лишь войдя в сеть логических импликаций и целый текст, вписавшись в изображаемую ситуацию, согласовавшись с ее связями и зависимостями, метафора, уточняет свой смысл, теряет неопределенность и может быть понятна, так как метафора, взятая сама по себе, есть лишь неопределенность в выборе одного из значений» [Блэк, 1990: 134].
Второй шаг алгоритма – это переосмысление понятий, руководствуясь знанием мира и его связями. Само переосмысление состоит из двух больших блоков – метафорической референции и пресуппозиции. Референция является базовым этапом в процессе переосмысления, т.к. без указания на знакомый и понятный объект из окружающего мира не возможна знаковая функция. Этот поиск знакомого в значении есть денотация. Но денотат в представлении любого адресата связан с какими-то ассоциациями из личного опыта или исторической памяти. Эти ассоциации и знания, сопутствующие денотату, упакованы во фреймы.
Конечно же не все сведения об обозначаемом укладываются в эту схему. Часто необходимо еще и «предварительное» знание, которое не описывается в дескрипции, но которое пресуппонирует ей. «Пресуппозиция относится к знаниям о мире, не вошедшим в фокус типового образа» [Филлмор, 1983: 134]. Но этот тип информации является необходимым для включения в тот или иной фрейм. Поэтому он тоже вводится как знание субъекта, фокусирующее типовой образ.
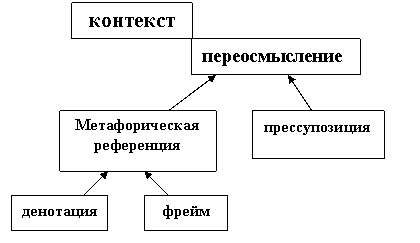
Пользуясь предложенным алгоритмом, проанализируем следующий пример:
If even British Telecom is now struggling, what does that mean for other establishment players. (Economist 4-10.04. 1998)
Во-первых, читателю, чтобы понять, что он имеет дело с метафорой, необходимо вычленить метафорический контекст, на фоне которого происходит процесс метафоризации. В данном случае достаточно словосочетаний, чтобы понять, что в предложении две метафорические структуры: British Telecom is struggling; establishment players. Выделяя микроконтекст, адресат обратит внимание, что в первом и во втором случаях метафоризация основана на соотношениях, выходящих за рамки одной категории, т.е. компания – неодушевленное понятие; бороться – действие, которое свойственно одушевленным понятиям; establishment – конкретное, неодушевленное понятие, player – одушевленное понятие.
Следующий шаг – переосмысление, которое происходит в несколько этапов. Во-первых, переосмысливая понятие, адресат обратится к прямому значению понятий: struggle – violently try to get free; fight against; и player – a person who takes part in a sport or game. Во-вторых, каждое из значений вызывает определенные ассоциации, связанные с данным понятием. Вычлененное и категоризованное тем или иным способом, характерным для данного языка, буквальное значение понятия «struggle», «player» из окружающего мира включается в концепт, соотносясь со знаниями о нем. Знания входят в виде фреймов в данный концепт. Адресат может не иметь собственного опыта, связанного с тем или иным понятием, но он читал или слышал о нем, следовательно, его социальная историческая память включает ассоциации всех понятий. Так, например, одно и то же, казалось бы, слово «struggle» включается во фреймы «Военные события» (такие, как акциональные фреймы «struggle with enemy», «to win the struggle », «to lose the struggle », т.п.). 'Типовой образ может включаться в различные фреймы, и это обеспечено знанием о том, что «struggle» выступает как «Военные действия» или же играет роль терма в акциональных фреймах. Из этого следует, что «включение типового образа в концептуальные структуры приводит к выводному знанию о свойствах референта, рассматриваемого в той или иной структуре знания о нем» [Банин, 1995: 132]. Следовательно, процедуры соотнесения типового образа с тем или иным знанием о его свойствах или диспозициях — это процедуры референции. Понятия «struggle» и «player» имеют некоторую исторически-сложившуюся эмоциональную окраску, которая пресуппонирует семантическому значению.
Таким образом, метафора есть результат когнитивного процесса, который сопоставляет два или более референта, обычно не связанных, что ведет к семантической концептуальной аномалии, результатом которой обычно является определенное эмоциональное воздействие.
Литература
Арутюнова, Н.Д.
Метафора и дискурс // Теория метафоры. - М.: Прогресс, 1990. - С. 5 - 33
Банин, В.А. Субстантивная метафора в процессе коммуникации ( на материале
английского языка): диссерт. - М.: 1995. - 274 с.
Блэк, М. Метафора //Теория метафоры. - М.: Прогресс, 1990. - С. 120 - 143.
Маккормак, Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. - М.: Прогресс,
1990. - 338 3- 374.
Филлмор Ч. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. - М.:,
1983.
Hoffman, Е. Forms of Talk. - Oxford, 1985. - 397 p.
Т.Е. Яцуга
(Томск, yatsuga@mail.ru)
Оксюморон в лексической регулятивной структуре поэтических текстов З.Гиппиус
Коммуникативная модель «автор» – «текст» – «читатель» (по удачному определению одного из исследователей названная бермудским треугольником филологии (Л. Кайда), своеобразная ось филологических исследований последних десятилетий, приобретает особую значимость в современной антропологической лингвистике, стимулировавшей изучение языка в тесной связи с человеком. В связи с этим значима разработка проблемы воздействия текста на читателя и изучение роли лексической организации художественного произведения в этом процессе.
Идея о способности автора через особенности словесно-художественного структурирования текста направлять интерпретационную деятельность адресата получила развитие в теории регулятивности - одном из направлений коммуникативной стилистики художественного текста.
Остановимся подробнее на некоторых используемых нами понятиях теории регулятивности. Регулятивность рассматривается нами, вслед за Е.В. Сидоровым. [1] и Н.С. Болотновой [2], как «системное качество текста, заключающееся в его способности «управлять» познавательной деятельностью читателя» [2, с.180]. На уровне элементов текста выделяют регулятивные средства, с помощью которых «выполняется определенная психологическая интерпретация в познавательной деятельности читателя» [2, с. 182]. Взаимосвязь регулятивных средств, важнейшими из которых являются лексические, формирует регулятивные структуры. На уровне макроструктуры выделяются способы регулятивности, различные виды сопряженности стилистических приемов и типов выдвижения [2, с. 181].
Теория регулятивности открывает новые возможности в изучении идиостиля автора, который отражается в наборе доминантных для творчества поэта регулятивных средств и регулятивных структур, по-разному организующих познавательную деятельность читателя. На основе изучения особенностей регулятивности поэтических текстов автора становится возможным моделирование концептуальной картины мира, в которой наиболее полно проявляется своеобразие поэтической языковой личности.
Данная работа посвящена исследованию регулятивного потенциала (возможности потенциального воздействия на читателя) оксюморона в лексической регулятивной структуре поэтических текстов З. Гиппиус.
В начале ХХ века разными поэтами, в том числе и представителями русского символизма [3, с. 28], единство противоположностей провозглашается как основа мира, также «декларируется и сложная природа явлений, заключающих в себе противоположные начала» [3, с. 28]. Одним из приемов синтеза противоречивых начал становится оксюморон.
Оксюморонами и оксюмороно-ироническими идиомами и сочетаниями, которые близки к пословичным выражениям («тот, кто любит, должен ненавидеть», «В Божией правде - божий обман») [4, с. 34] примечательно поэтическое творчество З. Гиппиус.
Оксюмороном называют «семантическое преобразование, образный потенциал которого основан на действии разнонаправленных, антонимичных семантических признаков» [5, с. 422]. В оксюмороне происходит устранение разнонаправленности семантики каждого из его компонентов, они «мыслятся как единое целое» [5, с. 422].
Регулятивный потенциал оксюморона в поэтических текстах З. Гиппиус определяется: спецификой взаимосвязи компонентов, образующих оксюморон; конвергенцией оксюморона со стилистическими приемами; ролью в регулятивной лексической структуре текста: это частный прием (регулятив–локатив) или принцип организации текста (регулятив–концепт).
Большими регулятивными возможностями обладают оксюмороны двух групп в силу эксплицированности оснований уподобления: 1) оксюморон, основанный на контрасте семантических признаков слов, относящихся к языковым антонимам, в случае их идентичной частеречной принадлежности в языке (ночь дневная, ночные дни, миги вечные, блистательная тьма, музыка бесструнная, прозрачные темности, близкая даль). Как правило, эксплицированность в оксюмороне узуальных лексико-системных связей слов позволяет говорить о яркой регулятивности данного стилистического приема; 2) оксюморон, в основе которого находится антонимический корневой повтор: неверность верная; ложь неложная; горим и не сгораем; живу без жизни; война не военная; любим, не любя и др.
Меньший регулятивный потенциал свойствен оксюморонам, основанным на сближении разнородных понятий, в которых «противопоставленность слов не столь очевидна» [5, с. 34–35]: отрадно умирать, снежный дым, проклятая надежда, грозная отрада, дождь январский.
Конвергенция оксюморона со стилистическими фигурами и тропами повышает регулятивный потенциал оксюморона: ср. использование олицетворения (ворчит тишина), окказионализмов (миги вечные, прозрачные темности), сравнения («Мне легок крест, как брачное кольцо» («Брачное кольцо»)).
Оксюморон в поэтических текстах З. Гиппиус становится не только одним из ярким стилистических приемов, но и «смысловым центром некоторых развернутых текстов» [3, с. 38], «принципом организации развернутых фрагментов текста и целых стихотворений, которые строятся как смена разнотипных оксюморонов» [3, с. 38].
Например, в стихотворении «Водоскат» (А.А. Блоку) прием оксюморона является смысловым и композиционный центром стихотворения.
(1) Душа моя угрюмая, угрозная,
Живет в оковах слов.
(2) Я - черная вода, пенноморозная,
Меж льдяных берегов.
(3) Ты с бедной человеческою нежностью
Не подходи ко мне.
Душа мечтает с вещей безудержностью
О снеговом огне.
(4)И если в мглистости души, в иглистости
Не видишь своего,-
То от тебя ее кипящей льдистости
Не нужно ничего.
Как и в большинстве поэтических текстов З. Гиппиус, на примере данного стихотворения можно наблюдать поэтапное приобщение поэтом читателя к своему мировидению. Ассоциативно-смысловое поле текста образуется взаимодействием АСП концептов «душа», «огонь», «холод».
В первой регулятивной микроструктуре текста актуализированы «микросмыслы» - «угрюмость, мрачность» (угрюмая, угрозная), «несвобода» (метафора «оковах слов»), подчеркивается нестандартность лирического героя. Окказионализм угрозная мотивирован фонетически прилагательным угрюмый, повторяющийся в данных словах звукокомплекс угр напоминает звуки, издаваемые животным в ситуации угрозы и опасности для жизни.
Конвергенция стилистических приемов (развернутое сравнение, семантический повтор (пенноморозная - ледяных), лексический окказионализм (пенноморозная)) составляет специфику лексической организации второй регулятивной микроструктуры текста: Я - черная вода, пенноморозная, / Меж льдяных берегов. В ней актуализируются микросмыслы «мрачный» (черный), «холодный» (пенноморозная - ледяных), «несвобода» «ограниченность пространства» (меж льдяных берегов): вода рождена в этих берегах и не способна выйти за их пределы.
В третьей лексической микроструктуре смысловым центром текстового фрагмента становится прием оксюморона. Оксюмороны с бедной человеческою нежностью; снеговом огне усиливают микросмыслы предыдущего высказывания: «мрачность», «холод». Прием антитезы (нежность – безудержность) подчеркивает нестандартность лирического я, отторгающего любые человеческие чувства.
Звуковой облик слов мглистости, иглистости, льдистости в заключительной регулятивной микроструктуре текста усиливает ощущение «необычности», «колючести» лирического «Я». Оксюморон «кипящая льдистость», вторично репрезентирующий микросмысл «особого холода», вносит новые смысловые оттенки: это предельная форма существования горячего – холодного (предел огня - кипящий; предел холода – льдистость).
Таким образом, своеобразие макрообраза данного текста (души), ее сложность, многомерность, всеобъемлемость, противоречивость раскрываются через ряд оксюморонов: бедной человеческою нежностью; снеговом огне, кипящая льдистость. Отвлеченные существительные льдистость, иглистость, мглистость, нежность, безудержность абстрагируют данный образ от всего вещественного, конкретного. Звуковой облик лексем подчеркивает чуждость души всем «теплым» человеческим чувствам. Душа лирического героя подобна несущемуся к своим порогам потоку воды (см. заглавие «Водоскат»), но, в отличие от природной стихии, она предчувствует ожидающие ее препятствия и все–таки не останавливает свой бег.
Можно говорить о преобладании в поэзии З. Гиппиус оксюморонных сочетаний, основанных на сближении антонимичных понятий огонь – холод (холодное кипенье, снеговой огонь, кипящая льдистость; ледяные лучи), звук – тишина (шепчет тишина, ворчит тишина, певучая тишина), что свидетельствует о значимости данных концептуальных оппозиций в поэтической концептосфере автора. Оксюморон как регулятивное средство в лирике З. Гиппиус эксплицирует концепты «время» (ночь дневная, миги вечные и др.), «смерть» (смертная надежда, воскресная смерть, отрадно умирать и др.), «любовь» (любим не любя, любовь не любовная), индивидуально–авторский концепт «небывалое» и др.
Таким образом, в поэзии З. Гиппиус оксюморон является доминирующим регулятивным средством, значимым для экспликации ключевых концептов поэтической картины мира автора в лексической регулятивной структуре текста.
Литература
- Сидоров Е. В. Проблемы речевой системности. - М: Наука, 1987.- 140 с.
- Болотнова Н.С. О теории регулятивности художественного текста // Stylistika: Stylistika slowianska.- Slavic Stylistiks. Вып. VII. 1998. Opole, 1998. - С.179 – 188.
- Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала XX века. – М, 1986.- с. 252.
- Неженец Н.И. Теория верхнего и нижнего неба (З. Гиппиус) // Неженец Н.И. Русские символисты. – М., 1992. - C. 31-42.
- Фатеева Н.А. Тропы как семантические преобразования // Стилистика и литературное редактирование / Под ред. проф. В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2004. – С. 415 - 432.
Приложение (вне алфавита)
С.В. Жожикашвили
(Москва, jojik@tais.ru)
ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ СОДЕРЖАНИЯ
1. Проблема понимания художественного текста приобретает особое звучание в случае школьного изучения литературы по различным причинам. Понимание может быть затруднено в силу возрастных особенностей, меньшего жизненного и культурного опыта, подростковой психологии. Следует учитывать также и своего рода несвободу школьника: в отличие от обычного читателя, от него ожидается и требуется понимание художественного текста как обязательное условие.
2. В то же время художественный текст вовсе не обязательно бывает рассчитан именно на понимание, это не популярная статья; он, наоборот, может строиться с ожиданием НЕпонимания, понимание в иных случаях выглядит более легкомысленно, поверхностно, чем непонимание, претендующее на бόльшую глубину. Художественный текст специально шифруется, кодируется, часто его назначение – оставить читателя в некотором замешательстве, а не привести его к полной ясности.
3. У содержания художественного произведения есть разные уровни, прямой и скрытый смысл. Можно говорить о понимании разных уровней текста. Конкретный пример и его обобщение в басне. Что является содержанием и что должно быть понято в басне – аллегория или мораль? Ставит ли аллегория собственные проблемы для понимания, не связанные с пониманием морали, «смысла» басни? В какой мере можно говорить о понимании морали как о части понимания басни в целом?
4. Входит ли в понимание текста понимание его жанра, указывающего на то, как следует понимать текст (случай с басней и моралью)? Входит ли в понимание текста понимание историко-литературного контекста, интертекстуальных связей, авторских намерений (указания авторов на предполагаемый адресат и т.п.).
5. Конкретный и метафорический смысл художественного произведения. Жанр притчи. Стихотворение Пушкина «Анчар» написано о дереве, о добре и зле, о человеческой природе? Важно ли учитывать жанровый характер притчи? Понимание и интерпретация. Можно ли говорить о понимании как об интерпретации образной системы? Возможные понимания сравнения «анчар – часовой». Возможные интерпретации этого образа.
6. В какой степени мораль является частью понимания текстов, например, Льва Толстого? Входит ли в понимание романа «Анна Каренина» мысль о том, что «женщине не следует гулять» (Некрасов)? Что мы вообще понимаем: текст романа или саму жизнь, к попытке понять которую нас натолкнул художественный текст?
7. Возможна ли иерархия смыслов художественного произведения? Может ли быть более или менее глубокое понимание? Можно ли считать понимание, лежащее на поверхности «Анчара» (я понял, что царь отправил раба на смерть ради своих государственных целей) менее глубоким, чем «мораль» (люди не должны быть рабами, люди не должны иметь рабов, зло не надо трогать, зло найдет свой путь к людям и т.п.)?
8. Чем глубже мы проникаем в текст (понимаем его?), тем дальше мы от него, тем больше вторгаемся в область интерпретаций и домыслов. Углубляясь в текст, мы приближаемся к нему или отдаляемся от него?
9. Вне зависимости от того, какой смысл считать более сложным, более глубоким, один может линейно следовать за другим, потому следующий смысл просто невозможно увидеть (понять) раньше, чем прочтешь предшествующий, причем первый смысл обозначает второй (сперва надо понять, что «человека послал человек к анчару властным взглядом», а уж потом – что он царь или раб и т.п.).
10. Смыслы могут сосуществовать параллельно или следовать один за другим. В поэме «Бахчисарайский фонтан» Пушкина хорошо видно, как автор заменяет начальные смыслы (любовь в гареме и т.п.) последующими (собственная любовь и т.п.). Последовательность смыслов может не играть особой роли, она связана с линейностью речи. Варианты судьбы Ленского в «Евгении Онегине», важна ли последовательность? Сравнение Ленского с мотыльком и «пьяным путником на ночлеге». Динамичность, изменчивость характера главного героя в «Евгении Онегине» и проблема понимания.
11. Смыслы могут сосуществовать параллельно, произведение помимо внешнего содержания посылает message, например, «я – крут». Этот message может быть выражен в разных содержаниях у В.Высоцкого, Б.Окуджавы или у современного барда. В чем причина непонимания одного и того же message разными поколениями? Что считать формой, а что – содержанием текста?
12. Общая проблематика разных произведений И.С.Тургенева. Единство проблематики его произведений. Мысль о бренности земного существования, о несостоявшемся счастье, о тщетных попытках изменить судьбу, выраженная в разных формах и с помощью различных сюжетов. Наивно-реалистическое и эстетическое восприятие темы счастья в «Асе», «Дворянском гнезде», «Отцах и детях» и «Вешних водах». Имеет ли смысл постановка вопроса о возможности счастья в этих текстах? «Онегинский» сюжет и произведения Тургенева.
13. Содержание и форма как образ и фон, их взаимозаменяемость в процессе восприятия и понимания художественного произведения.
Оглавление
И.Э. Абдрахманова
Информация и процессы ее понимания и восприятия на занятиях РКИ при использовании аудиовизуальных средств…………………………………………………………………………3
Е.Г. Борисова
Количественные параметры моделирования понимания..5
А.А. Боронин
ФЕНОМЕН НЕПОНИМАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА……………………………………………….6
А. Е. Бочкарев
О категоризации как условии понимания………………………7
Н.Г. Брагина
Концепт непонимание и его оценочные коннотации……...9
Н.Н. Брагина
Маленькие солдаты………………………………………………………11
А.Е. Брусенцев
Понимание текста детьми при обучении и самообучении чтению…………………………………………………………………………12
Е.П. Буторина
О роли когнитивных инвариантов в понимании……………14
И.Т. Вепрева
Метаязыковой ключ к пониманию текста…………………….16
С.Н.Виноградов
Моделирование при интерпретации знака в семиозисе….18
М.Н. Володина
Понимание и восприятие текста в рамках межъязыковой и межкультурной коммуникации…………………………………19
М.И. Воронцова «Почему не говорят?» или лексическая асимметрия и обучение языку………………………………………20
В. Д. Горбенко
Невербальные компоненты коммуникации как средство выражения модального значения………………………………...22
В.З. Демьянков
Техники понимания имплицитности, эксплицитности и сверхэксплицитности…………………………………………………23
Н.М. Джусупов
лингвокогнитивная модель описания единицы междисциплинарного характера в художественном тесте……………………………………………………………………………25
Д.О. Добровольский
Модификация структуры идиомы в аспекте понимания…………………………………………………………………..27
Г.В. Дьяченко
Универсальный экзистенциально-смысловой код как условие понимания…………………………………………………….31
Анна А.Зализняк
Я этого не понимаю: семантика, прагматика, узус………34
О.А. Зарецкая
Понимание и интерпретация ситуации как одна из проблем психологической герменевтики…………………….38
А.И. Иваницкий
Пушкин - универсальный автор, моделирующий универсального читателя……………………………………………40
О.А. Казакевич
ОБ ЭТАПАХ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ РАСШИФРОВКИ ПОЛЕВЫХ АУДИОЗАПИСЕЙ………………………………………………..41
Л.В. Калашникова
Метафора – адаптивный механизм процесса познания…43
В.Н. Карпухина
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДИКАТОВ РЕЧЕВОГО ДЕЙСТВИЯ В ТЕКСТЕ: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ…………………………………………44
П.А. Катышев
Проблемное поле риторической герменевтики………………46
В.В. Квач
Об исследовании понимания в универсальной знаковой системе – естественном языке……………………………………..48
О.И. Колесникова
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ ДЕТЬМИ ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ…………………………………………………………50
А.А. Котов
Распознавание эмоционального состояния адресата в диалоге………………………………………………………………………..52
А.Д. Кошелев
О языковом понимании, возникающем в акте коммуникации (при взаимодействии схемы лексического значения с наивной классификацией мира)……………………………………………………………………………55
Е.И. Кравцова
Естественные категории В функционально-семантическом поле дейксиса……………………………………..60
Ю.Е. Кравченко
Понимание эмоций как фактор преодоления стресса……62
Г.Е. Крейдлин
Ошибки понимания: проблемы невербальной межкультурной коммуникации эмигрантов и реэмигрантов………………………………………………………………64
С.А. Крылов
Четырёхуровневая модель понимания: предмет семантики и её разделы……………………………………………….65
И.В. Кузнецов
Источники художественного смысла: от автора к читателю…………………………………………………………………….68
Н.Н. Леонтьева
От «не знаю» – к «не понимаю»………………………………………70
Ю.Р. Лотошко
Компьютерное понимание текста в семиотическом аспекте………………………………………………………………………..70
Д.В. Люсин, В.В. Овсянникова Стилевые аспекты идентификации эмоциональных состояний………………72
Н.В. Максимова
Моделирование процессов понимания на основе матричного метода анализа текста……………………………73
Е. М. Мартынова
Невербальные средства проявления агрессии и коммуникативные аномалии……………………………………..75
Е.М. Масленникова
ПЕРЕВОД КАК МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА: ТЕКСТ-В-ДИНАМИКЕ………………………………………………………76
А.Н. Минка
Прагматическая направленность рекламного текста….79
М.Ю. Михеев
Поэтика Платонова позднего периода («Возвращение» 1946-1951): недоговоренность и намек……………………………81
Арто Мустайоки
Выражение иметь в виду как один из элементов ситуации коммуникативной неудачи………………………………………..84
Т.Б. Назарова
Кросс-региональный перевод ключевой бизнес-терминологии в связи с решением проблемы понимания………………………………………………………………...85
А.Е. Некрасова
Создание и восприятие этнических стереотипов в средствах массовой информации (на примере англо-французских стереотипов в британской качественной прессе)……………………………………………………………………….86
Ю.Д. Нечипоренко
Понимание в переживании: физический театр (восприятие театрального действия и физической теории)……………………………………………………………………….88
О.В. Низковская
Дискурсивные характеристики политической коммуникации……………………………………………………………90
Л.К. Никифорова
Язык один, а цели разные…………………………………………………….91
А.П. Новикова
Русскоязычные интернет-тексты суицидальной тематики: модус и прагматика…………………………………………………….93
В.А. Нуриев
Переводческие флуктуации………………………………………….95
О.И. Опарина
Изучение концептуальных полей как элемента в познании культуры………………………………………………………99
П.Б. Паршин
Рефлексия
формы текста в коммуникации:
опыт типологии………………………………………………………….100
Н.Н. Перцова
Литературная критика как особый тип понимания (на материале российской прессы начала XX в.)………………..103
И.А. Пильщиков Коммуникация и понимание в концептуальной системе Баратынского……………………..104
Ю.К. Пирогова
Дискурсивное давление и стратегии обработки маркетинговых сообщений………………………………………..105
И.А. Преснухина
Англоязычные культуры и проблема понимания в деловом общении………………………………………………………107
Н.В. Рабкина
Мифологические образы света и тьмы в англоязычной лирике первой мировой войны……………………………………108
Е.Э. Разлогова
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ФРЕГЕ: ЕСТЬ ЛИ ДЕНОТАТ У ПРЕДИКАТОВ?...........110
В.П. Руднев
Общение телами в романе Андрея Платонова «Чевенгур»………………………………………………………………….112
С.Ю. Семенова
О фаЙле памяти…………………………………………………………..114
М.А. Сивенкова
«ПОЙМИТЕ МЕНЯ ПРАВИЛЬНО», «I just want to be clear»: МЕТАКОММУНИКАТИВНЫЕ ХОДЫ ПОНИМАНИЯ В ДИАЛОГЕ (на материале русского и английского языков) ………………116
М.В. Смелова
Миф и идеология рекламы………………………………………….118
Т.С. Троицкая
Понимание в обучении (анализ некоторых результатов исследования грамотности чтения девятиклассников…………………………………………………….120
Ю.Л. Троицкий
«Контекст понимания» как условие учебной коммуникации………………………………………………………….122
А.В. Уланова, Н.Т. Тарумова
Научный фон для понимания Естественнонаучного текста: культурологический аспект…………………………. 125
А.В. Уржа
«Случайности» переводческой интерпретации произведения в контексте его коммуникативно-семантического устройства……………………………………...125
Л.Л. Федорова
О двух стратегиях понимания: «гуманитарное» и «техническое» толкования (на примере слов беспорядок, кавардак, беспредел)………………………………………………….128
О.Е. Фролова
Субъект речи в художественном тексте………………………132
М.А. Членов, C.Ф. Членова
Когнитивный аспект ориентационных систем (Восточноиндонезийские модели)………………………………133
З.М. Шаляпина
Аналитические показатели "сильного" управления в сущностной модели естественно-языкового синтаксиса………………………………………………………………..135
Т.А. Ширяева
Модель понимания значения метафоры в дискурсе…….138
Т.Е. Яцуга
Оксюморон в лексической регулятивной структуре поэтических текстов З. Гиппиус…………………………………140
С.В. Жожикашвили
ПРОБЛЕМА
ПОНИМАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ СОДЕРЖАНИЯ…………………………………...143
Понимание в коммуникации. 2007. Язык. Человек. Концепция. Текст: Тезисы докладов Международной научной конференции (28 февраля – 1 марта 2007 г., Москва).
Верстка:
д.ф.н. М. Михеев
Ответственный за выпуск:
д.ф.н. проф. В.З. Демьянков
===========================================================
Подписано в печать 19.01.2007 Формат 60x84/16.
Бумага офсетная №1. Гарнитура Таймс. Печать ризо.
Усл. печ. л. 9,5 Уч.-изд. л. 10. Тираж 110 экз.
Заказ № 2.
===========================================================
Участок оперативной печати НИВЦ МГУ
119992, ГСП-2, Москва, НИВЦ МГУ
N.N. (сыну): Просила работяг
ерунду – подправить ножки у дивана и вытащить гвоздь.
Они деньги взяли приличные, а гвоздь оставили. Как можно было ?
не понять простую просьбу? ¿
? Сын (12 лет): А я вообще не понимаю, как это люди иногда ¿
? ухитряются понимать друг друга. У вас же разные цели. ¿
? Им нужны деньги и чтобы поменьше работать, ¿
? а тебе нужно спать на кровати без ¿
? гвоздя. Зачем им тебя ¿
? понимать ¿
?
![]()
![]()
![]() · ·
· ·
![]()
![]()
![]()
![]()
· · ·
·  ·
.
·
.

![]() ·
·
·
·
![]() “Во-первых,
есть предложения,
“Во-первых,
есть предложения,
которые, как я думаю, понял и которые
считаю ясными, стимулирующими и важными.
Их я конечно же нахожу лучшей частью книги.
Вторыми идут предложения, которые, как я думаю,
понял, и с некоторой долей уверенности считаю ложными или
содержащими заблуждение. Таким образом, я расцениваю их следующими
по значимости за предложениями первой группы. В-третьих, есть такие предложения, которые я не понимаю и, следовательно, ценность которых я не могу оценить.
И, в-четвёртых, есть ряд таких предложений, которые, с одной стороны,
кажутся понятными, но, с другой стороны, им дано неопределённое
и тёмное выражение, следовательно, их невозможно
принять или отвергнуть”
·
(из комментария Э.Стениуса к чтению "Логико-философского трактата" Л. Витгенштейна).